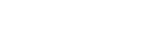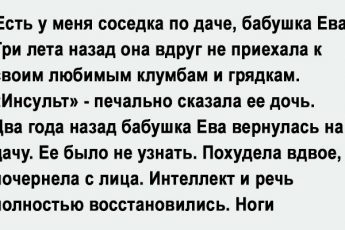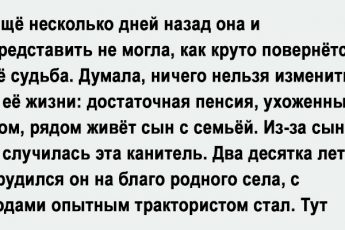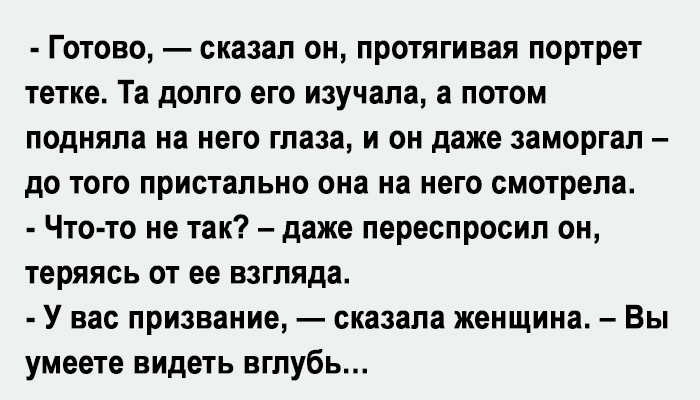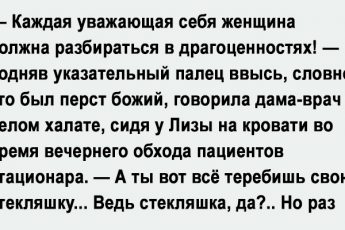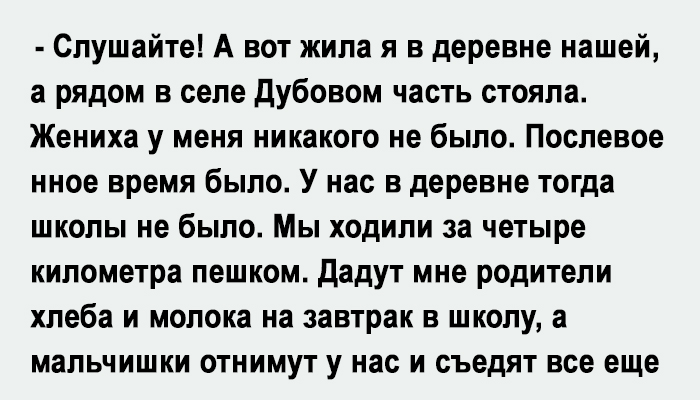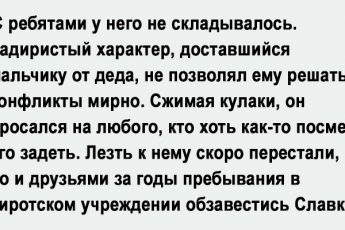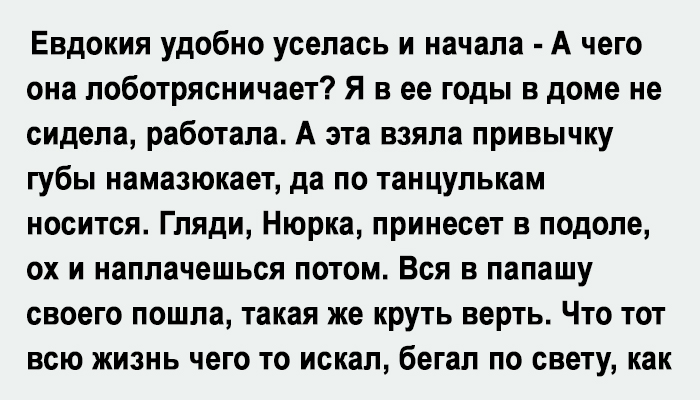Мою сослуживицу Верку все детство мама лупила по любому поводу. Верка рассказывает об этом совершенно спокойно, как о погоде, ни одна чёрточка не дрогнет. Сегодня идёт дождь. Мама била за пролитый чай, за неподшитые к форме манжеты по воскресным вечерам, за тройки, за позднее возвращение из школы, за взгляд исподлобья, за молчание, за попытки возразить — хлестала по щекам, по губам, отвешивала подзатыльники, могла и пнуть. Больно колотила по рукам, если замечала, что Верка открывала мамину шкатулку и трогала ее брошки и кольца. Там брошек-то было… Одна янтарная, в форме паучка с проволочными лапками, вторая расписная, в проволочном витом каркасе, да пара колец, да заколка с фальшивыми бриллиантами. Но трогать было нельзя. Даже смотреть было нельзя. Нипочему, нельзя и всё.
Иногда мама, наоборот, принималась тяжело и гневно молчать, и молчала неделями, и это в определенном смысле было даже ещё хуже. Но хотя бы не оставалось синяков.
Когда Верку отправили в санаторий на море (маленький вес, слабые лёгкие), мама собирала ей чемодан, черная, как туча: швыряла вещи, передразнивала гнусавыми голосами докторов, а Верка, сжавшись, сидела в уголке. Она понимала: мама работает, мама из сил выбивается, мама передовик производства, а на море почему-то едет она, Верка, совершенно бесполезный член общества. Верке было стыдно, что послали на море ее, а не маму, и она бы с удовольствием поменялась с мамой своими слабыми лёгкими, но как, как?! В поезде, который вез ее и ещё кучу детей в далёкий санаторий, Верка придумала, что ее настоящую маму украли много лет назад, а вместо нее подсунули вот эту, или её заколдовала злая колдунья. Так хотя бы можно было жить. Она же видела, как другие мамы провожали своих детей. Обнимали, целовали на перроне, некоторые даже плакали. Совали кулёчки со вкусным. А одна мама долго бежала рядом с поездом, все махала в окошко. Это было больно, намного больнее, чем пощёчины.
За почти два месяца санатория мама ни разу не позвонила на древний телефон на «посту», и не отбила ни одной телеграммы. Даже когда наступил и прошел Веркин день рожденья. А Оле, Веркиной соседке по палате, её мама прислала четыре или даже пять писем! Верка с каким-то больным, жгучим, горьким любопытством спрашивала Олину согнутую над письмом спину: ну что там, что?! Оля, не поворачиваясь, скороговоркой отвечала — да что-что, ерунда всякая, Муся родила четырех котят, два полосатых, два черных, из-за брата мамку в школу опять вызывали, подрался, а моя классуха маму встретила, ругалась, что много пропускаю, а соседка сверху опять залила, вся клеёнка на кухне отклеилась. Да, у нас клеёнка вместо обоев, а что?! Только над столом. Знаешь, как мыть удобно?
Верка страшно завидовала Олиным котятам, письмам и даже клеенке вместо обоев. Одно письмо она, повинуясь порыву, сама написала домой, деньги на конверт и марку попросила у воспитательницы, та поморщилась, но дала. Ответ не пришел, да Верка и не ждала. Уже дома, потом, после санатория, мама на ее вопрос о письме удивилась, но как-то слабо: ааа, письмо, какое письмо, не было никаких писем, адрес поди сама неправильно написала, бестолочь. Про прошедший день рожденья мама даже не вспомнила, а Верка напоминать и не стала…
***
Однажды Верка украла хрустальную балерину из подружкиного буфета. Ну или стеклянную, неважно. Балерина была такая красивая! Верка не смогла удержаться. Ходила специально несколько дней подряд к подружке в гости, ходила, смотрела на балерину при каждом удобном случае, а потом не выдержала, и, пока подружка отошла в туалет, стремительным броском открыла дверцу буфета, сунула балерину за пояс школьной юбки, под колготки, и так, почти не дыша, принесла ее домой. Балерины подружкина мама хватилась через день, пришла в школу, и была очень плохая сцена, Верка рыдала и отнекивалась, тогда подружкина мама вечером после уроков всё рассказала Веркиной, и уж перед ней отнекиваться было без толку: дома она вечером безошибочно сунула руку под стопку Веркиных трусов на полке в трехстворчатом полированном шкафу, и балерину нашла. В тот раз она ее побила резиновым шлангом от стиральной машинки, было очень больно, намного больнее, чем тряпкой, ремнем или рукой. Синяки с рук и спины не сходили несколько недель, а молчала мама потом все лето, как будто Верка всё лето была пустым местом. Да что там лето. Всю Веркину жизнь.
***
Стипендию в училище Верка получила, порвавшись почти пополам. Учеба давалась ей тяжко, химию она ненавидела, памяти не было никакой. Но она старалась изо всех сил, старательности у нее было на троих. Стипендию получила, счастливая, принесла ее матери, ожидая ласкового слова или хотя бы взгляда, а та равнодушно взяла двумя пальцами тощую пачечку купюр, и, не считая, кинула в свою сумочку. Сказала — наконец-то хоть что-то с тебя получила, хоть какая-то польза с дармоедины. С тех пор Верка стала по одной-две купюры с каждой стипендии припрятывать для себя, а мать и не замечала. На припрятанное покупала себе то тушь-плевашку, то помаду. Мамино она никогда не брала, никогда. Стоило ей только лишь подтянуться к маминому ящичку с косметикой, чтобы его открыть, как начинали болеть и ныть пальцы и ладони.
Вышла Верка замуж, ещё пока училась, только бы быстрее в общежитие. Пять лет у них с мужем дети не получались, потом родилась Катюшка, потом они развелись, комната в общежитии осталась Верке с дочкой. Катю Верка называет «моя ягодка» и «моя бусинка», и никогда и пальцем ее не тронула, ни разочка, даже когда черная пелена усталости застилала глаза, даже когда Катька вообще не спала и орала часами. Сжимала зубы, не позволяя вырваться из глотки черным, полным ненависти маминым словам, скрипела зубами, уходила в коридор общаги, там била кулаком стену, на случайно пробегавших соседок орала тихо и сдавленно матом, и давилась слезами, но Катька ни разу не услышала от нее ни одного черного слова. Все они, слипшись в черный тяжёлый ком, так и остались у Верки внутри, и иногда от них ныл желудок.
Мать, жившую одиноко, чисто и нарядно в двухкомнатной квартирке до самой смерти, после замужества Верка не навещала совсем, да та и не рвалась дружить. Виделись они всего несколько раз после рождения Катьки, однажды даже сфотографировались втроем в фотостудии на проспекте: Веркина мама с химией на голове, красивая, моложавая, с узкими язвительными губами, худая как вобла Верка с напряжённо и испуганно заломленными бровями, и годовалая пухлая Катька с огромным бантом на полулысой головке. Бант долго и тщательно приделывал фотограф, пока Веркина мама сердито притопывала лакированной туфлей на каблуке: торопилась домой, в одиночество.
***
Эта фотка сейчас стоит на Веркином столе на работе. И она же, только размером побольше, висит в ее комнате над кроватью в рамке с гипсовым ангелочком в уголке. Единственная фотография, где они втроём. Квартира бабушкина, но Катя ее с бабушкой совсем не помнит, как будто она всегда была их. И саму бабушку тоже совсем не помнит, та быстро и будто бы совершенно на ровном месте умерла, когда Катя только должна была пойти в первый класс, не оставив о себе никакой памяти в Катькиной голове. Но мама часто и много про бабушку Кате рассказывает, и теперь она отлично ее представляет. Рассказывает, какая она была хорошая, добрая, самая лучшая на свете мама. Как она о маленькой маме заботилась, как ее любила. Готовила всякие вкусные блюда из редких, дефицитных продуктов. (Теперь они все эти «бабушкины» блюда готовят вместе с Катюшкой, та сама всё режет, и потом варево мешает большой деревянной ложкой с длинной ручкой, как взрослая!) Как читала ей перед сном книжки вслух, мама теперь ей тоже так читает постоянно. Как они вместе ездили поездом к тётке в Саратов, Катя всё мечтает, что они с мамой тоже куда-нибудь далеко поедут на поезде, без разницы куда, но лучше бы к морю. Раньше мама про бабушку вообще каждый день перед сном рассказывала, теперь уже реже. Катя очень любила слушать эти рассказы, больше, чем чтение книжек: мамино лицо разглаживалось, мягчело, она начинала улыбаться, а иногда даже немного плакала светлыми счастливыми слезами. Подробности маминых рассказов раз от раза немного менялись, но так Кате было даже интереснее.
Время от времени вместо рассказов мама достает из шкафа конверты и зачитывает Кате длинные подробные бабушкины письма, написанные угловатыми буквами с обратным наклоном, совсем как у мамы. Мама говорит, что бабушка всегда писала ей письма — в санатории, и в летние лагеря, и когда она одна гостила у тетки в Саратове два лета подряд, а потом бабушка с теткой поссорилась навсегда, и мама в Саратов больше не ездила, а тетка потом умерла. Этих писем была целая огромная коробка! Штук сто! Конверты все красивые, нарядные, то с букетом, то со зверушками, но многие почему-то без адреса. Одно бабушкино письмо, в конверте с огромным праздничным букетом, мама читала Кате чаще других.
«Моя дорогая дочечка Верочка, моя ягодка. Пишу тебе письмо, хотя ты уехала только неделю назад. Очень по тебе соскучилась, кажется, что так долго тебя не видела, и не слышала твой голос. У меня тут все хорошо, только не хватает тебя рядом. Встретила Анну Леонидовну, она очень тебя хвалила, спрашивала, когда ты вернёшься. Сказала, что ты легко догонишь пропущенное, и чтобы я не волновалась. Я и не волнуюсь, я ведь знаю, какая ты у меня умница, самая лучшая на свете девочка. Муся в этот раз родила четырех котят, двух черных, двух полосатых. Они такие хорошенькие! Как раз к твоему приезду откроют глазки, будут уже ползать. Может быть, одного котика оставим себе? Мне больше всего нравится полосатенький. Возвращайся скорее, я так по тебе скучаю, моя зайка. Больше всего на свете хотелось бы сейчас тебя обнять. Мне так жалко, что в этом году день рожденья твой пройдет в санатории. Но мы с тобой его непременно отпразднуем, когда ты вернёшься! Я испеку торт, твой любимый, с лимоном и орехами. Дома тебя уже ждёт подарочек, я знаю, ты давно о нем мечтала. Что именно — не пишу, пусть будет сюрприз. Целую мою ягодку, очень люблю, жду возвращения, твоя мамуличка».
Каждый раз после чтения этого письма Верка вытирала большим пальцем пальцем глаза, несколько минут сидела молча, глядя на фото на стене, потом доставала из застеклённого шкафа с посудой стеклянную статуэтку — маленькую балерину. Показывала ее Кате, давала подержать в руках, посмотреть через нее на лампу у кровати, потом бережно убирала обратно. Снова вытирала глаза. А Катька тихонько недоумевала, она точно видела, как однажды, примерно год или два назад, когда она уже засыпала, мама на цыпочках сходила в коридор, достала из сумки бумажный свёрток, долго им шуршала, а потом с лёгким звоном поставила что-то на полку в шкаф. Следующим утром, пока мама причесывалась в ванной перед зеркалом, Катька с восторгом и изумлением разглядывала балерину, поселившуюся ночью в их шкафу, за стеклом. А оказывается, это бабушка подарила маме давным-давно, в мамином детстве. Наверное, раньше мама просто прятала ее в сумке много-много лет… А еще мама показывала шкатулку, в которой лежали настоящие сокровища: крошечный синего стекла пузырек из-под духов, заколка с разноцветными гранеными стекляшками, янтарная брошка в виде паучка с лапками, тяжёлое кольцо с огромным зелёным камнем, маленькая расчесочка для ресниц и бровей, и ещё одна овальная брошка, эмалевая, с букетиком незабудок, в проволочной витой оправе. Тоже бабушкины подарки, мама рассказывала, что бабушка постоянно дарила ей просто так всякие сокровища. Скоро они все станут Катины, так мама говорила. Как только Катя ещё немного подрастет. И балерина тоже! А пока мама иногда даёт Кате этими сокровищами поиграть, «только очень аккуратно». Катя играет не дыша, берет каждую вещь самыми кончиками пальцев, подносит к глазам, к носу, нюхает и даже тайком облизывает, особенно янтарного паучка, а потом бережно складывает все богатства обратно в шкатулку.
А ещё Катя всё собирается задать маме один вопрос. Когда-то раньше, год или два назад, мама ей рассказывала, что у них с бабушкой никогда не было кота или кошки, хотя она всегда о ней мечтала. Несколько раз Катя про кошку Мусю и ее котят из того письма у мамы собиралась спросить — но так почему-то ни разу и не спросила…
Автор: Юлия Куфман