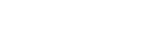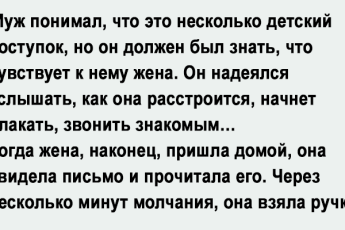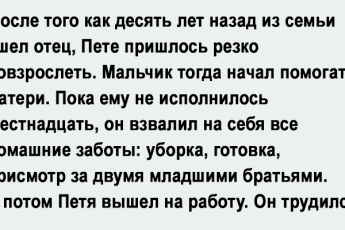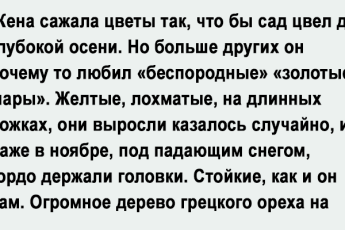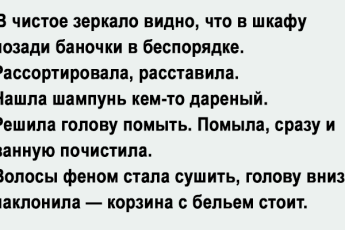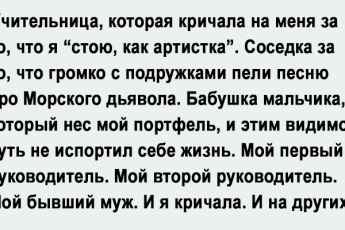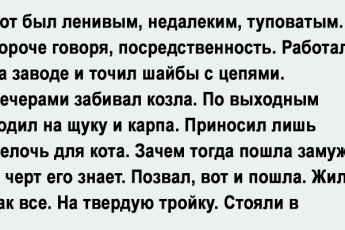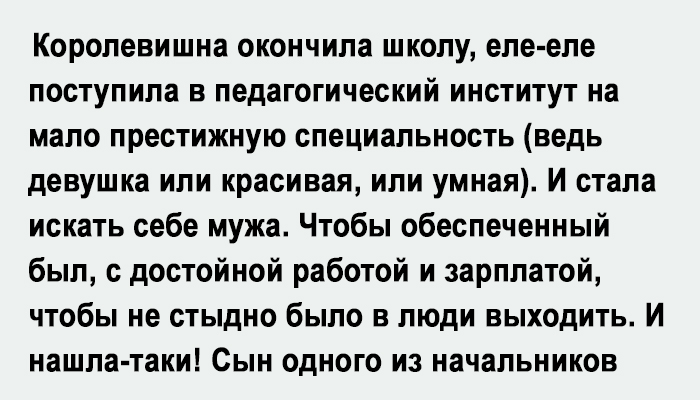Я слышу стук. Я знаю, здесь никого. Но они тут. И это я знаю тоже.
Я не говорю с ними. Их четверо. Иногда они уходят. Сама я уходить из дома боюсь: мало ли что они могут сделать. При мне только бродят, машут руками и спят: девочки на старых подушках в углу, мальчик — в кладовой, старик — около балкона в дедовом кресле. Дети — розовощёкие и чистые, но вот старик приходит из могилы. И если я уйду, он может полезть на кухню и начать шарить в крупах — руки-то в земле.
Я не выключаю свет в коридоре ночью: смотрю через щёлку, ходит он там или нет. Хочу спросить у него, что ему надо. Боюсь. Вдруг он хочет утащить меня к себе?
Я пробовала уложить на подушки, в кладовку и к балкону кукол, чтобы ребята и старик видели, что место занято. Но они не ушли, а просто перестали спать и болтались по квартире. Старик до утра запирался в ванной — видимо, стирал испачканное землёй бельё. Я хотела рассказать про них дочке, но побоялась: скажет ещё, сошла с ума старуха. Да и далеко ей ехать, и работа. Чего беспокоить.
Год повернул на зиму, темнало рано, и спать приходилось всё меньше: уходили они только с рассветом, а в какой-то момент и вовсе перепутали день и ночь, стали являться, когда заблагорассудится. Днём было ещё ничего: гудели соседи, гавкали собаки, слышно было, как хлопает подъездная дверь и шаркают шаги. Вечером начинали бормотать телевизоры, стучали по батареям. А ночью… Ночью слышен был каждый шепоток, каждый голос. Я вставала перед зеркалом и видела в нём только себя. Но, оборачиваясь, видела и их тоже. Бежала в комнату, включала тихонько телевизор, зажигала все лампы. Иногда засыпала.
Каждый раз возвращаясь с улицы, заходила в домой украдкой; старик почти всегда стоял у дверей. Я боялась, что он найдёт Антонову палку и стукнет меня по голове. Встречая его, опускала глаза: слышала, что мертвецы взглядом высасывают душу.
Я пошла в церковь. Батюшка отмахнулся: мол, не может такого быть. Зато женщина в церковной лавке помнила меня ещё с похорон Антона. Шепнула: положи нож под порог, они и уйдут. Положила. Не помогло.
Ещё одна тётка сказала: это те, кто раньше тут жил, в дом приходят. А мне-то что? Мне разве от этого легче? Наконец нашла знахарку. Приехала к ней за тридевять земель, всё рассказала. А она и велела только: иди, говорит, к врачу. Это, говорит, у тебя галлюцинации.
Когда я вернулась домой, увидела, что старик смеётся надо мной: губы растянулись в улыбке, плечи тряслись. Дети тоже улыбались. Старшая девочка качала головой: мол, нет, не уйдём, не надейся. А у самой руки худые, чёрные, будто и дрова колет, и за скотиной ходит. Откуда мне знать, что она делает, когда не здесь? А тут, поди, старик её ещё и стирать заставляет, и готовить ему, пока меня нет.
— Хочешь, — говорю, — за тебя буду стирать?
Вроде как и задобрить, а вроде как и жалко её. Серьёзная девочка, хотя лет-то — десять-двенадцать, не больше. Рыжая, худая. Старшая у меня такая же была — долговязая, вся в веснушках.
Девочка посмотрела на меня, качнула головой. На секунду я встретилась с ней глазами — надо же, карие, как у Соньки, — испугалась и побежала в комнату, забилась под одеяло. Сейчас придёт… Заберёт душу. Но ни девочка, ни другие ребята не шли; впервые за несколько недель не было ни шагов, ни шума. Я успокоилась, уснула. Во сне, видимо, сбросила одеяло, перевернулась, проснулась на спине. И чувствую — смотрит на меня кто-то. Смотрит, не отводит взгляд.
Я же знала, что это он. Знала. И всё равно глаза открыла, не утерпела. А он стоит, смотрит, наклонился немного… Я сразу узнала глаза. Сколько угодно могло пройти времени, я бы узнала. Светло-зелёные, с едва заметными крапинами.
— Антон?.. Антоша?
Он только улыбнулся. Морщины, щетина седая, гусиные лапки вокруг глаз, но я и улыбку узнала бы хоть через сто лет. Вот, значит, как он изменился за годы, что мы не виделись. А я-то, глупая, его боялась…
После этого я уже не переживала из-за него, только детей чуралась. А Антон и исчезать перестал: ходил постоянно за мной, и дома, и в магазин. Мне с ним не страшно было на улице. Я только всё просила:
— Помой руки, Антоша, грязные ведь, в земле.
Он то ли не слышал, то ли не хотел.
Про ребят я думала так: если старик оказался моим Антоном, может, и это тогда — мои? Но почему такие маленькие? Катя под машину попала, когда ей двадцать было. Соне сейчас почти шестьдесят. А сыновей у меня и не было никогда.
И хотела я рассмотреть получше этих ребят, и боялась. А к зиме они привели четвёртого, совсем крошечку — ползает, смеётся. Я ему сшила одёжку, положила на трельяж у кровати. И остальным тоже сделала, чтобы не обидно, — шерстяные жилетики, штанишки, чтобы не мёрзли. Особенно боялась за младшую девочку: платье у неё было совсем короткое, руки голые, хоть бы халат мой взяла… Нет. Никакой одежды не брали.
— Оденься. Холодно же так. Младшенькая, возьми кофточку. Младшенька! Машенька!
Антон только беззвучно смеялся, махал рукой: не лезь, мол, к ней, она сама лучше знает.
***
В декабре соседка зашла за солью; я велела ребятам:
— Прячьтесь-ка.
Соседка простояла, проболтала целый час; я её дальше порога не пустила, и так, и эдак намекала: уходи! Она трындела и трындела. А ребятам-то моим скучно втихомолку сидеть, и не привыкли они, чтобы чужие в доме. Смотрю, крохотулечка выполз с кухни, гулит. Я ему:
— Сейчас, милый, сейчас приду. Погоди минутку.
— Ты кому это? — насторожилась соседка.
— Да так. Приблазнилось.
— Ты смотри, — велела соседка, а сама с тех пор повадилась — то за мукой, то на чай. Конечно, дети при ней постоянно прятаться не могли, да и Антон по вечерам выходил, с нами чаёвничал. Я уж просила его: припугни соседку, пусть не ходит к нам. А он руками разводит; я так поняла, никому, кроме меня, не мог показываться.
— Кто это там у тебя? Всё в угол смотришь.
— Да так. Ходит ко мне, — буркнула я, отрезая хлеба.
— Кто? Кто? — не отставала соседка. Потом привела дочку свою, врачиху. На минуту так больно стало: чужая дочка пришла, взяла за руку, спрашивает, слушает внимательно. А своя-то где? Хоть бы позвонила…
Не помню, как расчувствовалась. Видела сквозь слёзы, как Антон волнуется, мотает головой: не говори, мол, не говори про меня! А я вроде как и не хотела ничего этой Ане рассказывать, но слово за слово и про мужа, и про ребят выдала. Она меня успокоила, сказала: бывает такое, не переживайте, Марьяна Алексевна, вот попейте-ка этот чай успокаивающий, всё пройдёт.
А я и хотела, и не хотела, чтоб проходило. Краешком ума понимала: блазнится всё. Не бывает призраков. Антон давно умер, двадцать лет прошло, и дети уже давно взрослые. А всё-таки как хорошо было: захожу домой — а они все ко мне, улыбаются, ручки тянут. Маша косится на сумку: что купила? Сонечка взглядом спрашивает: помочь тебе, мама? Старший мальчик держит маленького на руках и смотрит на меня Антоновыми глазами: светло-зелёными в крапинку. А сам Антон тут, рядом. Сидит в кухне, пока чай пью. Потом телевизор смотрим. А когда ложусь — садится в своё кресло около кровати и охраняет меня всю ночь.
В тот вечер повертела я в руках Анин чай, повертела и отложила. И без него знала, что в доме никого. Но они были здесь. И это я знала тоже. И, когда меня забирали в больницу, дети мои поехали со мной.
***
Розовые таблетки уже к вечеру прогнали маленького. После белых исчез старший мальчик — я его называла Костей; всегда думала: если будет сын, Костиком назову. К утру, всхлипнув, истаяла старшая девочка.
— Иди сюда, — шепнула я младшей, не разжимая губ, и приподняла одеяло. Она юркнула ко мне, блестя глазами. Медсестра ничего не заметила, но проследила, проглотила ли я днём белую капсулу. Я уснула — надолго, крепко, — а ночью и младшенькая ушла: проснулась, а в кровати пусто. Позвала тихонько:
— Машуля? Иди ко мне… Ну что ж ты…
Молчание.
Больше уснуть я не смогла: храпели кругом нестерпимо, шептались медсёстры, скрипели койки. В пять утра начал проблёскивать рассвет. Я всё оглядывалась, искала ребят по углам. Антон, шагнув из-за холодильника, качнул головой сочувственно. Положил руку на плечо. Вроде и не чувствую ничего — а вроде и тепло, и так мягко-мягко покалывает, как первый снег.
Следующие дни я много сидела в кресле у окна. Антон от меня не отходил ни на шаг, когда мне приносили таблетки, плакал, жестами умолял не брать. Я его просила:
— Антоша! Ты почему молчишь? Поговори со мной, хороший мой.
Но он только качал головой, целовал меня в макушку. Ловил бестелесными пальцами мои руки, целовал, пытался перехватить, чтоб не брала таблетки. А как я могла не брать? Заставляли. Следили, проглотила ли. А Антон таял день ото дня. Таял. Таял…
— Поговори со мной, милый.
В одно утро розовых таблеток не принесли. Как я обрадовалась! В обед дали новые, жёлтые. Я вернулась из душа — а Антон исчез.
***
Потёрла руки — кожа шуршала, как пергамент; крем кончился, а мыло здесь оказалось вонючее, скверное. Из окна постоянно дуло, и в лад с ветром гудело в голове. Я припрятала полотенце, перевязала его поясом от халата, сделала куклу. Милая девушка с соседней кровати дала мне помаду, я нарисовала кукле глаза и рот. Назвала Машей.
Совсем перестала спать: боялась — вдруг мои придут, а я пропущу. Однажды увидела себя в зеркало и не узнала: скулы выдались, щёки впали, глаза стали, как красные щёлки. Может, они и приходили, — ребята-то мои, — но меня не узнали.
Маша за ночь намокала так, что едва успевала высохнуть до вечера. Я всё думала, где бы взять ещё полотенце, вместо платка, но нигде не могла достать, и пояс у меня отобрали. Куколка превратилась в простую ткань, милую девушку после комиссии выпустили.
Я осталась совсем одна.
Спустя неделю вспомнила, как в самом начале знакомства девушка научила меня прятать таблетки. Я боялась сестёр, но одиночество было страшнее. Где мои дети? Я была уверена, я видела их под окном: мёрзнут, зябнут… А Антон? Тоже ведь ни шубы, на плаща. Мне нужно было, чтобы они попали ко мне, в тепло. И я решилась спрятать таблетку.
И Антон пришёл! Первым! А за ним, гуськом, в палату вошли дети.
Я протянула руки к Машеньке. Она заулыбалась, побежала ко мне — по-прежнему молча. Мальчики сдержанно улыбались от дверей, стоя по обе стороны от мужа. Который, впрочем, выглядел куда моложе прежнего: подтянутый, молодцеватый.
— Мы тебе поможем отсюда выбраться, Марьяша. Только когда врач на комиссию вызовет, ты говори не то, что видишь, а то, что я скажу. Хорошо?
— А это кто? — шёпотом спросила я, кивнув на детей за его плечом. — Сонечку с Машей я узнала, и Костика, и маленького. А эти?.. Откуда?..
Антон улыбнулся, обернулся. Взял Костю за плечи:
— Это сын наш. Константин Антоныч. А этот, — указал на малыша, — Кирик. Внучок.
— Чей внучок?
— Как чей? Наш! Сонечкин сын. А это, смотри, Наташа. Как на тебя похожа, а? Это — Артёмка, племяш. Это Туся с Нютой, Катины девочки. Не узнаёшь разве? А вот и Катюшка…
— Катя! — вырвалось хрипло, болезненно. — Катюша? Ты ли?
Катя вышла из толпы, сделала шаг навстречу. Надо же… Катюша… Неужели? Во всё поверила: в то, что муж рядом, в то, что Сонечке десять лет, и дети её тут, и внуки наши с Антоном. А в то, что Катя жива — не поверила. Слишком давно, слишком больно…
— Ты ли, Катя?
— Я, мам. Да что ты плачешь? Мамочка, да ты что? Пойдём скорей на комиссию. Ты не переживай, мы же все с тобой. Никто тебя не обидит. А потом поедем домой, мама.
***
— Ну как, видите ещё призраков, Марьяна Алексеевна?
Я отчётливо видела всю мою семью позади врача. Видела, как Антон мотает головой, как лукавые искорки пляшут в глазах детей. «У врачей сейчас полно больных, во всех больницах. Никто проверять особо не будет, спросят — видишь, мол, призраков или нет? Скажи нет, они тебе таблетки выпишут и отпустят» — учил меня муж. Я послушно ответила:
— Нет, Пал Антоныч, не вижу.
— Вот и славно, — отозвался врач, перебирая бумаги. Жестом попросил что-то у сестры, подтянул печать, осмотрел со всех сторон. — Мы вам выпишем таблетки. У вас есть, кто сможет ходить в аптеку?
Я уже открыла рот, хотела сказать «муж» — вовремя спохватилась. Антон сделал грозные глаза, показал пальцем на меня. Я сообразила:
— Сама смогу.
— Рецепт не потеряете? Без него не дадут.
— Я раньше на химпроизводстве работала, секретные документы хранила. Ничего не теряла. Уж рецепт-то сохраню.
Антон одобрительно кивнул. Я не удержалась — улыбнулась.
— Что такое? Увидели кого? — нахмурился врач.
— Да ну вас. Про дом подумала. Наконец-то — домой.
— Домой так домой, — ставя печать, кивнул Пал Антоныч. — Вам сейчас сестра бумажечку даст с расписанием, что во сколько пить. Над столом приклеите, чтобы не забывать. Кто вас заберёт-то? Дочери вашей мы писали запрос, не ответила.
Кольнуло на сердце. Но десятилетняя Сонечка улыбнулась из-за спины врача, и отпустило.
— Соседка заберёт, — сказала я. Тут мне даже помощь не понадобилась: сама сообразила. — Анна Ивановна.
Никакая Анна, конечно, меня не забирала — у меня и без неё своих хватало. Домой я шла торжественно, в окружении родных. Только в подъезде они пропали — там темнота, ни зги не видно, а мои-то только на свету появляются… Я поднялась, повернула ключ. Дверь, скрипнув, открылась, дохнуло затхлым, тёплым. Сердце ухнуло глубоко, к самому животу — так испугалась. Испугалась, что и правда выдумала всё, и никого, никого нет…
— Мама, чего на пороге встала? — прозвенел Катюшин голос, она взяла меня под руку — как бабочка прикоснулась. И вся квартира разразилась гомоном, из кухни донёсся смех, знакомые, полузнакомые, незнакомые, но родные лица глянули отовсюду. Я искала в этой круговерти Антона, смеялась, аж слёзы потекли, обнимала всех подряд и только жалела, что никак не могу прикоснуться к ним по-настоящему, по-настоящему к себе прижать.
Рецепт я изорвала и выкинула в помойку. Испекла пирогов, накрыла стол, расставила серебряные розетки с вареньем — не зря в серванте хранила. Проследила, чтобы хватило каждому. Получасом позже почувствовала, как потянуло в сон — властно, неодолимо. Добралась до постели, улеглась.
Царапала по стеклу ветка; капало из крана. Шумел ветер — ласково, осторожно. Все они, все мои сидели у кровати. Я знала, что здесь никого. Но они были тут. И это я знала тоже.
Проснулась уже в сумерках — светился ночник, косо ложился через комнату луч фонаря. Давно я не спала так крепко, так сладко. Давно не ощущала себя такой лёгкой. Спустила ноги с кровати, потянулась… А в трельяже напротив так и осталась лежать.
Встала, чувствуя уже не лёгкость — невесомость. Подошла к зеркалу. А отражение так и показывало, что лежу на кровати. Сплю. А может быть, и не сплю вовсе — просто лежу, не дышу даже.
Я подошла к трельяжу вплотную, коснулась стекла и не почувствовала ладонью ни сопротивления, ни прохлады. Не увидела, что стою напротив. Не увидела, как подошёл сзади Антон, обнял, прижал к себе.
— Вот ты и дома наконец.
— Вот я и дома.
Автор: Дарина Стрельченко