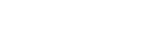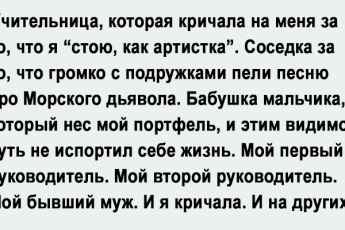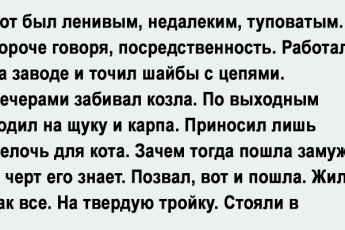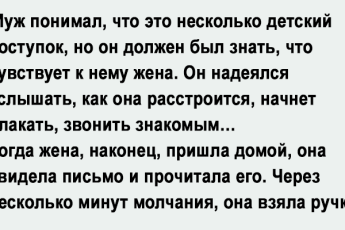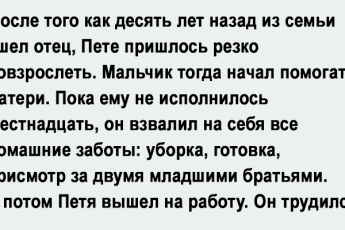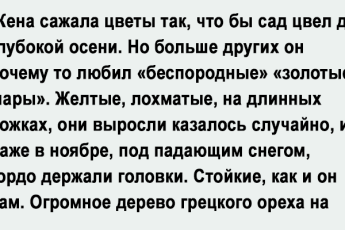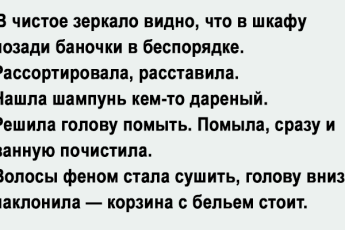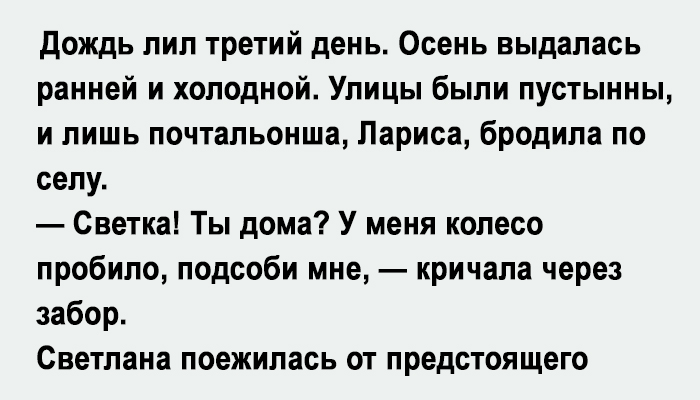Анатолий Сергеевич летел домой, к матери. Нет, он не забывал ее, они часто виделись, но всегда мать приезжала к нему в военные городки. Погостить, понянчить детей. И каждый раз сын просил:
— Останься насовсем, мама.
Мать соглашалась. Но проходила неделя-другая, и он замечал, что она не спит по ночам.
— Ты чего не спишь, мама?
— Не могу заснуть. Тут у вас такой шум, грохот.
И, не поддаваясь ни на какие уговоры, уезжала к себе в деревню, в тишину, к родному подворью. Чтоб на следующий год опять заявиться, но только в гости.
А нынче мать не приехала. Сын встревожился: может, случилось что? Но в ответ на письмо мать его успокоила: прихворнула чуток. Отлежусь и приеду. Не волнуйся и береги лучше себя. Летай пониже да потише, очень тебя прошу…
Время шло, мать не ехала. И тогда он решился проведать ее сам.
По микрофону объявили: приготовиться к посадке. Анатолий Сергеевич послушно пристегнул ремень. Самолет уже катился по посадочной дорожке. Но ведь еще нужно было добраться до деревни.
На автобусной станции объяснили: утренний автобус ушел, второй рейс будет только к вечеру. Он не стал дожидаться автобуса — взял такси.
Приятно было после самолетного гула окунуться в тишину полей. Прохладный ветер обдувал разгоряченное лицо, и от этого, несмотря на жару, немного даже знобило.
Подъехав к деревне, Анатолий Сергеевич попросил шофера остановиться. Ему показалось неловким после стольких лет отсутствия заявиться домой в такси. Ведь уходил-то он из дома пешком. Пешком должен и возвратиться.
Деревню было не узнать. Когда-то большая, веселая, она выглядывала теперь из зелени деревьев всего несколькими темными избами. И если б не табличка на верстовом столбе «Вязенки», он, пожалуй, и не узнал бы своей деревни.
Родной же избы не узнать было нельзя. Она стояла, как и раньше, на самом краю села, обозначенная тремя высоченными старыми березами: по одной перед каждым окном.
Забилось тревожно сердце, когда он увидел эти березы и под ними крыльцо — с резным коньком наверху, с резными перилами. Оно будто позвало его: входи, не бойся. И таким родным, знакомым запахом дохнуло на него из распахнутой настежь двери…
Он зашел: в избе было пусто. Млели от жары цветы в горшках на подоконнике. Сиротели дрова перед печкой. И никого. Лишь приглядевшись, он увидел, как в углу, на кровати что-то живое шевельнулось.
— Мама!
— Сынок мой!
Она гладила его по волосам своей теплой шершавой рукой, приговаривала:
— Как же это ты надумал, сынок? Вот радость так радость. Ну, погодь, я встану, поесть тебе сготовлю…
— Не надо, мама, лежи, сыт я.
— Ну, как же так? Ведь гость в доме…
— Она попыталась встать и не смогла, снова откинулась на подушку. Улыбнулась виновато:
— От счастья дух захватило. Сейчас, сейчас, отдышусь чуток…
Анатолий Сергеевич прошелся по избе, узнавая и не узнавая ее. Пол был чисто вымытым: кому его тут грязнить?
И все-таки отчий дом был не таким, каким он его помнил. Странное ощущение: в нем было тесно. А ведь когда-то этот дом казался ему огромным. Не казался, он и был таким. Иначе где бы они с сестренкой Анюткой устраивали в детстве настоящие воздушные баталии? Под потолком носились бумажные, выкрашенные голубым карандашом наши самолетики. Запущенные с печки, они сшибались острыми носами и падали на пол. Они с Анюткой просто визжали от восторга.
Да, было время, когда изба была огромной, теперь же он еле вмещался в ней, чуть не доставая головой потолка. Будто он вырос, а изба, наоборот, сжалась.
Анатолий Сергеевич подошел к стене, где в большой деревянной рамке висели фотокарточки, вгляделся. Вот отец — угрюмый, лобастый, с портупеей через плечо, с кубиками в петлицах. Вот мать — смешная, в платье горошком, с коротенькой челкой на лбу. Вот сестренка Анютка, совсем еще крохотная…
Он прошел в темные сенцы, ощупью нашел ведро, взял кружку, хотел зачерпнуть воды — ведро прогремело в ответ пустотой.
— Вот беда,— услышала мать и стала собираться,— я сейчас, тут близенько…
— Да что ты, мама? Я сам схожу.
— Не забыл, где наша криница? А забыл, так тут колонка рядышком.
— Ладно, найду.
Когда он принес из криницы воды, мать уже хлопотала у печки. Жарко пылали дрова, жарилась на большой сковороде яичница.
«Нет,— решил он про себя,— больше я ее здесь не оставлю одну. Воды принести и то некому».
Мать словно отгадала его мысли.
— Поправлюсь, даст бог,— сказала она,— зараз в гости нагряну. Еще чуру от меня будешь просить…
Она подошла к нему, провела рукой по лицу, словно хотела разгладить резкие складки по обеим сторонам рта.
— Устал, сынок? А ты приляг, отдохни с дороги-то. Небось умаялся.
Ему не хотелось ложиться, но мать почти силой уложила его, шутливо прикрикнула:
— Ишь, неслух!
Чтоб не перечить матери, Анатолий Сергеевич, не раздеваясь, прилег на диван, закрыл глаза. И сразу же, как серые, размытые облака, поплыли перед глазами воспоминания. Вот он мальцом в новой синей рубахе сидит на коньке крыши и пускает змея в такое же синее бездонное небо. А где-то внизу, на земле, прыгает сестренка Анютка и кричит:
«Я тоже хочу, я тоже хочу!»
Отца в деревне он не помнил. А теперь молодой отец глядел со стены на постаревшего сына и будто укорял его в чем-то. Сын хотел понять это, что-то вспомнить и никак не мог. Лишь билось в сердце, трепетало в нем неясное, едва уловимое чувство вины перед отцом. Но в чем? В чем?
Он так и заснул с этим неясным тревожным чувством, и во сне ему опять снилось небо, но не синее и бездонное, а низкое и черное, и он летел в этом небе отцу наперехват…
Проснулся оттого, что услышал шепот. Осторожно приоткрыл глаза: вокруг дивана сидели старухи и шептались. На головах у них были белые платочки, и платочки эти колыхались в такт шепоту: «Летает… Голубчик… Летает…»
Он резко рванулся с дивана.
— Проснулся, сынок,— сказала мать,— ну вот и хорошо, вот и ладненько. А к нам гости пришли, сидим тут, разговариваем шепотком, тебя разбудить боимся.
Приглядевшись, он стал узнавать старух, а которых не узнавал, те сами о себе напоминали.
— Да Фрося я, тетка Фрося, неуж забыл, как из рогатки петуха моего покалечил?
— А с моим Петькой ты еще в школу бегал. Иду это я, а они, басурманы, на елке сидят, сумки на сук повесили и про школу забыли.
— А где сейчас Петька? — спросил Анатолий Сергеевич.
Тетка Аксинья, большая, грузная, как мужик, гордо оглядела своих подруг, похвасталась:
— Петька мой высоко забрался. В министерстве работает. Самого, почитай, главного на машине возит.
Подзадоренные теткой Аксиньей, и другие старухи стали наперебой хвастаться:
— А мой Вася на шахтах работает.
— Мой непутевый тоже в летчики подался. Слышь, Толик, сустрекнетесь как-нибудь в небе, ты хоть привет ему передай. А то совсем забыл мать родную…
Подходили и подходили старухи. И каждая из них несла узелок с гостинцами. Вскоре от принесенных гостинцев уже ломился, как говорится, стол.
— А у нас завсегда так,— пояснила мать,— как чей нибудь сын или дочка в гости приезжают, так и собираемся. Хоть порадоваться на миру…
Она слазила в подпол, достала бутыль наливки, пригласила всех к столу:
— Садитесь, садитесь, что зря языками трепать.
— Кушайте, гостеньки, кушайте, милые, в кои-то веки и в моем дому взошло солнышко.
Мать, подошла к сыну, села рядом, положила голову ему на плечо:
— Не обессудь ты нас, родимый… Не часто в деревне такое случается. В гости и то не едут…
— А что, из моих сверстников никого не осталось?
— Считай, что и никого. Вот и тоскуют бабьи души. Дети разлетелись кто куда, как птахи сирые.
Глядя на старух, Анатолий Сергеевич с грустью думал: как разошлись судьбы. Старых матерей и их современных детей. И тут уж ничего не поделаешь. И только жалость к этим старухам забытых по маленьким деревням.