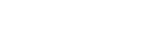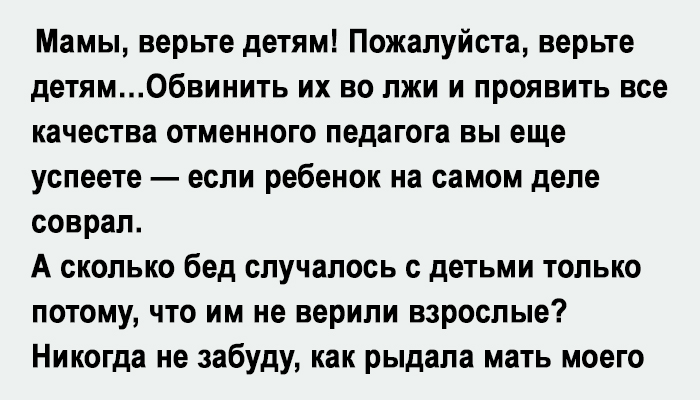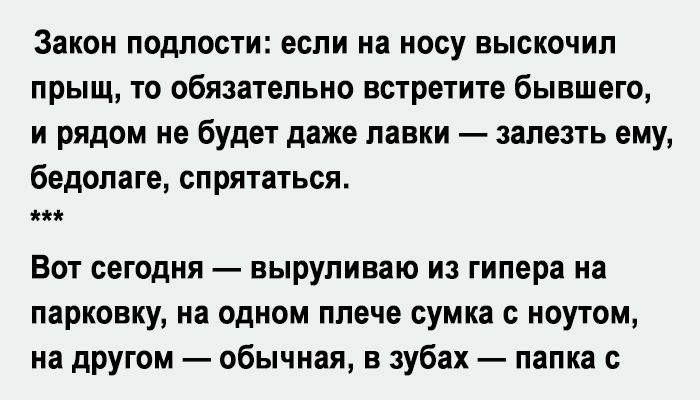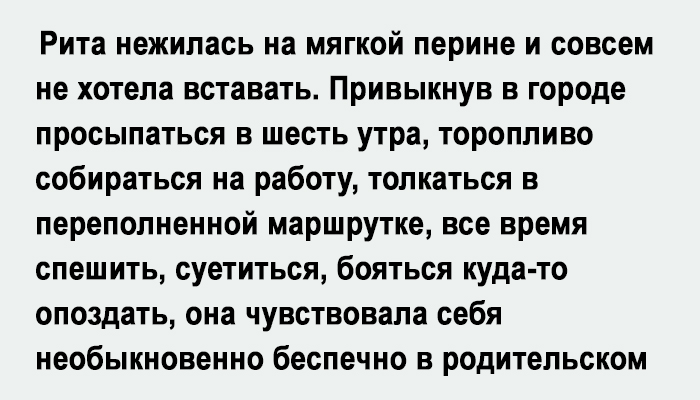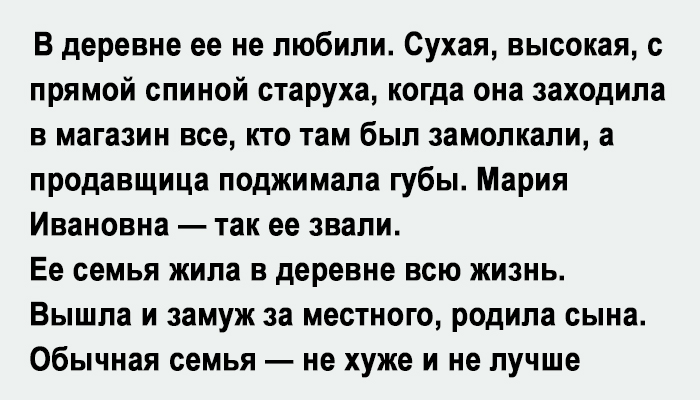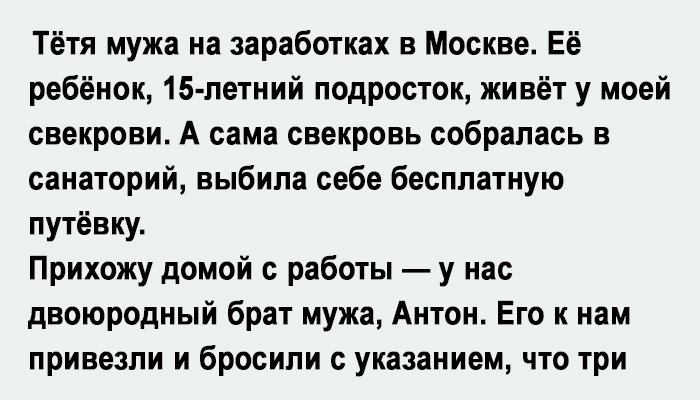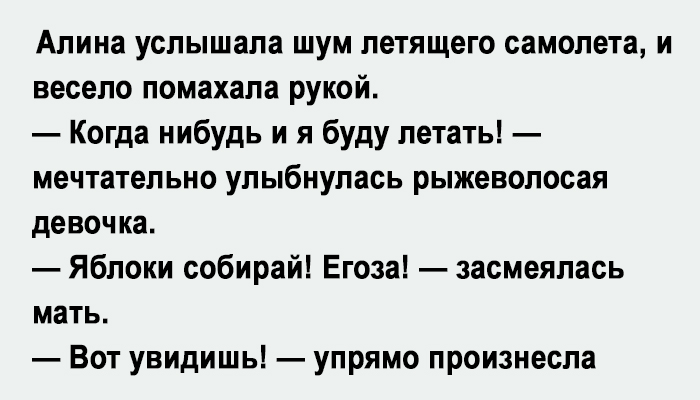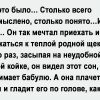У нас была особая школа — не в смысле, что мы были умственно отсталыми, а типа наоборот. Это был своеобразный эксперимент — школа искусств начала сотрудничать с общеобразовательной школой и нас распределили на классы по способностям. В «А» классе учились танцоры, в «Б» — фольклорное отделение, в «В» — музыканты, в «Г» — художники. Только в роли распределяющей шляпы выступали психологи. Если у ребенка вдруг во время комиссии обнаруживался хоть малейший призрак пcиxического недуга, он отправлялся в другую школу где-нибудь на окраине города.
У нас, музыкантов, был достаточно дружный класс. Да, так бывает. Правда, это я поняла, только когда эту самую школу закончила. Самым страшным нарушением дисциплины была игра: мальчики забирали у нас, девчонок, пеналы, и мы гонялись за ними на переменках. К началу уроков вещи всегда возвращали. Когда один мой одноклассник неудачно прыгнул через парту и умудрился ее сломать, мы сначала всем классом пытались ее как-то заклеить подручными материалами (у кого нашелся скотч, у кого — клей-карандаш, а кто просто помогал заклеивать парту слюнями). Пол-урока она еще как-то держалась на ПВА и слюнях, а потом на нее, видимо, кто-то слишком тяжело посмотрел и парта прямо на офигевающих глазах учителя разъехалась на две симметричные части.
Так вот, тогда каждый из нас, включая меня, признался, что это он. Да-да, это я неудачно прыгнул! Нет, это все я! Я расколошматил эту несчастную парту! Когда даже староста Лерочка, самая ответственная и послушная, на вопрос «Кто?» подняла ручку и, глядя своими ясными глазками прямо в сердце преподавателя, совершила чистосердечное признание, педагоги поняли — расколоть нас невозможно.
Трaвля, избиeния за школой — все это казалось у нас в классе какой-то фантастикой. Совсем иначе дело обстояло в «Г» классе (уж не знаю, как так получилось, учитывая отбор и психологов). Там все время кого-то травили. Причина могла быть какая угодно. Из-за того, что бабушка имела неосторожность накормить внучка хлебом с чесноком перед уроками, он рисковал навсегда получить прозвище «Вoнючка»; одну девочку за то, что ее укачало в автобусе в пятом классе, до самого выпускного бала звали «Блeвoтиной».
Я ходила на музыку и на художку. На художку вместе с «гэшками». Однажды меня некому было забирать с музыки, поэтому мне велели посидеть с художниками. Так я и засиделась…до одиннадцатого класса. На первых занятиях все, что я рисовала, было настолько плохо, что на вопрос: «Что это такое?» не могла ответить даже сама по истечению какого-то времени. Когда надо мной начали смеяться, сказала: «Доказю! Закончу художку с красным дипломом!» Способностями особыми я не отличалась, зато упертой была необыкновенно, рисовала по тридцать набросков в день. В самых лучших моих действиях порой лежит на редкость странная мотивация.
Но не обо мне сейчас. Был там особенный мальчик Степка. Ничем особенным на первый взгляд он не выделялся, в обычной школе учился на троечки.
Но его рисунки… это было нечто. Нечто выдающееся, прекрасное. Даже мы, дети, это понимали. В третьем классе он уже мог нарисовать самую обычную крынку так, что сразу видно — греется на солнышке, даже если вместо солнышка была холодная искусственная лампа. И молоко там, молоко точно настоящее, теплое, вкусное! Арбуз — так, что хотелось взять его и съесть с листа. Самый скучный академический натюрморт (две крынки, лампа да кабачок, а прежде, чем научиться рисовать так, чтобы посуда на рисунках не «заваливалась» в бок, таких пришлось перерисовать немало) в его исполнении превращался в шедевр. На свободные темы, пока мы все рисовали милых лупоглазых котят и красивых девочек, на его листах возникали величественные леса, духи-олени, ослепительно-белые единороги, парады планет и… престолы храмов. Причем не с картинок из интернета, композицию составлял сам. Из головы. На одном из зачетов завуч его работы даже не хотела принимать, думала, наша учительница их за Степку написала. Как он мог это нарисовать в таком возрасте? Откуда?
Больше всего взрослых удивляли храмы. Как помню — казалось, иконостас на них сияет, будто под лист поместили невидимую лампочку. И так хорошо от этой картины становилось, так светло! Причем набожных в его семье особо не водилось: мама-продавщица, папы у Степы, насколько я знаю, не было. На вопрос: «Откуда ты взял этот сюжет?» — Степа неизменно пожимал плечами.
— Скажи, может быть, увидел во сне? — все допытывались до него старшие, — Или тебе того? было видение?
— Чавой?
— Божья искра, — сказал кто-то из родителей на одном из просмотров, сравнивая его произведения и наши по-детски жизнерадостные каляки-маляки, — Ничего тут не поделать, божья искра.
Внешностью он обладал соответствующей: непропорционально-большие глаза из грустного хрусталя, светлые волосы. И гадкий характер. На редкость не вяжущийся с этим всем. Он любил шутить, но шутил зло, так, что всем смешно, а одному, тому над кем шутят, обидно. Злобный маленький шут, так мы его называли.
Занятия по художке длились по четыре часа в день. Сидеть с нами в классе и следить за каждым движением кисточки не было смысла, поэтому учительница уходила в учительскую. Возвращалась где-то раз в двадцать минут, чтобы проверить, разнесли мы класс или еще не окончательно, а заодно подойти к каждому, дать совет.
Если у нас в классе все были довольно мирными, в «Г» классе, особенно на художке, любимым занятием было драться мольбертами. Как только за учительницей закрывалась дверь — начиналось «веселье». Может быть, конечно, это со мной что-то не так, я вообще была натурой на редкость впечатлительной — в детстве плакала на мультике «Ну погоди», потому что было жалко волка, которого всегда бьют. Выросла — оказалось, это такой юмор. Может быть, — вывалять на полу чипсы и подать кому-то (на, угощайся!) это тоже был юмор? Может быть, порвать чужие работы перед самым просмотром — смешная шутка? Я не знала. На всякий случай предпочитала оставлять работы в классе у мамы (она в школе искусств работала) и покупать пропитание сама.
Степа никогда не участвовал в безобразиях напрямую. И никогда не был заводилой, ему нравилось поддерживать это исподтишка. Он умудрялся своими шутками подтравливать, подначивать кого-то, кого считал бездарностью, провоцировать, обнажая самые темные стороны издевками. А потом бегать к учительнице. «Меня обижают! Он на меня замахнулся!»
Потом, где-то после четвертого класса, Степа ябедничать перестал. Его работы становились все более совершенными, выпуклыми. Кисточкой он творил чудеса — каждый листик на дереве был прекрасен, каждый цветочек в букете сирени. А еще он научился изготовлять фекалии из папье-маше и подкладывать их жертве.
— Такой мальчишка талантливый. А пропадет он, — качали головой взрослые, — Как его отец, сопьется. Уже видны дурные наклонности.
Степка тем временем придумал новую шутку — приделывать причиндалы к пластилиновым скульптурам других ребят. Непременно перед тем, как коробку с работами брала учительница. Получалось очень правдоподобно. Он был талантливый, ничего не скажешь, все получалось почти как настоящее. Все смеялись. «Неужели это тот самый мальчик, что рисует храмы?»
Пару раз я пыталась заступиться за тех, кого намечали очередной жeртвой, но быстро поняла, чем может обернуться такая самодеятельность. Брать огонь на себя не хотелось. Поэтому просто надевала наушники и мир будто бы переставал существовать.
К нам приехала новая девочка Кирочка. Кирочка была из какого-то далекого села. И выглядела довольно милой, а-ля наивная провинциалка — хвостики, бантики, все дела.
— Здравствуйте, детки! Это ваша новенькая. Вы ее, детки, не обижайте, — сказала учительница и пошла в учительскую пить чай. «Загрызут ее у нас тут» — с тоской думала я, глядя на ее невинные голубые глаза, русые хвостики и другие атрибуты наивной героини. Будущей жeртвы.
Сначала все на художке беседовали с Кирочкой так, будто бы мы правда нормальные. «Где ты училась? Чем увлекаешься?» — ей-богу, будто вопросы из детской анкетки. Кирочка отвечала, улыбалась. Наши уже потирали руки — вот-вот сейчас! Будет «представление»! Я надела наушники. Наверное, это ужасно — вот так прятаться, но я не хотела становиться жeртвой вместо нее.
Если сосредоточиться на натюрморте, кажется, ничего не происходит. «Нехорошо, нехорошо» — пульсировало в висках и даже басы тяжелого рока не могли это перекричать. Упрямо рисую. В конце концов я сюда пришла, чтобы учиться рисованию, ведь правда?
На перерыв я пошла отдыхать вместе со всеми, хотя обычно предпочитала в переменки оставаться рисовать. Вяло болтала с приятельницей Катей, она одна из немногих, как и я, не умела драться мольбертами. К нам подошла Кирочка. Она казалось такой маленькой, младше нас на несколько лет. Русые хвостики смотрелись так трогательно. Мне стало за нее страшно.
— Ну как у нас здесь? — спросила Катька (надо же было с ней о чем-то поговорить).
— Довольно мило.
— Ты… будь поосторожнее, — вдруг вырвалось у меня, — Особенно с… — ловлю на себе взгляд Катьки. А что, я же не учителю их закладываю! Я правда хочу ее предупредить!
— Не волнуйся за меня, — в ее ангельском голосе вдруг прозвучали железные нотки. Кирочка вдруг совсем не по-детски усмехнулась, — Спасибо за предупреждения. Непременно запомню. Но за меня-то уж точно можешь не волноваться.
Что было потом, сложно вспоминать без содрогания. Несмотря на мои опасения, ей подготовили не самое ужасное испытание — всего лишь подменили стул. Поставили вместо того, на котором она сидела, сломанный (деревянный, запомните, это важно). Она села и под мерзкое хихиканье Степки упала. Кира молча встала. Медленно оглядела класс.
— Кто это сделал? — глаза у нее при этом вдруг стали безумные. Она уже ничуть не напоминала ту маленькую нежную девочку, которой была минуту назад. И как-то так получилось, что все разом указали на Степу. Он ее глаз не видел, сидел к ней спиной, дорисовывал кувшин. Кувшин был изумительный, как, впрочем, и все, что Степка делал. На этот раз там был компот, смотришь и ощущаешь вкус лесных ягод. Я не знаю, как у него это получалось.
Кира взяла этот сломанный стул и со всей дури ударила им о Степу. Она била его стулом, била и била. Никто не мог ее оттащить. Она била, пока от стула не осталась только ножка. У нас случалось разное: подсовывали какашки из папье-маше, дрались мольбертами, приделывали новые неприличные части к скульптурам. Но этот кадр: Кирочка с ножкой от стула в руке, как с битой — до сих пор иногда стоит у меня перед глазами.
Думаю, любого другого она запросто могла yбить. По крайней мере, сотрясение мозга было бы точно обеспечено. Степану ничего не было. Вообще ничего. Он только заплакал по-настоящему, я не видела, чтобы кто-то так плакал, так, что слезы, как на картине, катились по щекам. Но через десять минут он был как огурчик. Думаю, его защищала какая-то сила, не за то, что он был хорошим человеком, нет. А за то, что, когда смотришь на его кувшин, ощущаешь вкус теплого молока. За то, что на его рисунках церкви луч света играет на алтаре и кажется, будто наполняет тебя та самая благодать. За то, что божья искра никогда не гаснет в глубине его мутновато-серых глаз.
Кирочка опередила всех — первой наябедничала учительнице, что Степа подставил ей сломанный стул и она, бедняжка, упала. Но, так уж и быть, готова принять извинения. Степе досталось, нам всем тоже не поздоровилось. Кирочку с тех пор жутко зауважали — кажется, у нас появился новый «вожак». И безобразия под ее началом стали жестче, изощреннее.
Я не пошла в художественное училище. Хотя рисую до сих пор все тех же лопоухих котят. А Степа стал довольно известным. Художником с большой буквы (и вовсе не от слова «худо»), его быстро начали замечать. Недавно я была на его выставке.
Так было много лесов и церквей. И шут — почему-то с кистью. Плачущий. Я думала, плачущий шут — это избитый, давно истершийся образ, пока не увидела его в Степкином исполнении. Что-то внутри вздрогнуло и стало светло. Я поняла, почему Степка не связался с плохой компанией, не спился, не стал наркоманом, как предсказывали все, кому не лень. За что Сила так бережет его. Можно говорить, что талант не должен ничего оправдывать. Можно говорить, что талантливым людям все дозволено. Люди так часто спорят об этом. А я смотрела на его церквушки, крохотные, трогательные и светлые. На устремленные к небу ели. И думала о том, что порою не надо никакой морали. «Мне говорили, его работы помогают людям, болеющим рaкoм» — вдруг вспомнилось.
— Божья искра, — шептала я, — божья искра…
Автор: Власова Александра (Сашины Сказки)