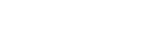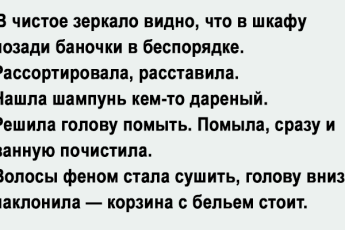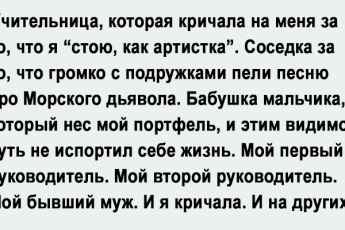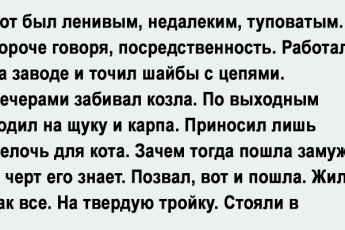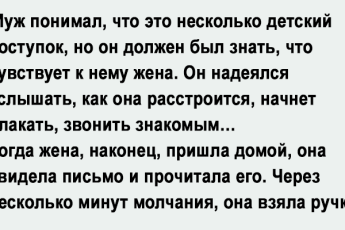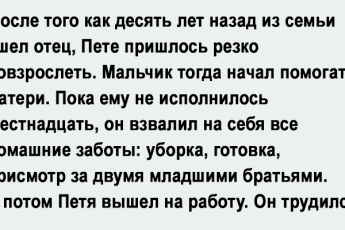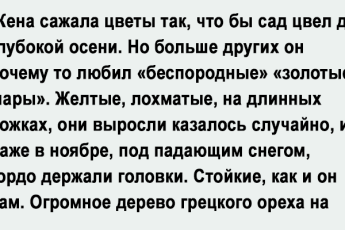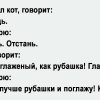– Дед, а дед! Ты вставать будешь или нет? – поза и интонации у бабы Кати, как у сержанта-сверхсрочника. Кто духом послабей и дрогнул бы. А дед бровью не повёл, пристально разглядывая заупрямившийся ремешок от часов: какого-то рожна сегодня вредничал, никак не попадая в свои скрепочки. Приладив ремешок на запястье, дед поворочался и сел в кровати поосновательней. Сетка её провисла почти до пола.
Насобирав из «джентльменского набора» четыре таблетки, баба Катя бережно несёт их в одной ладони. А в другой руке – стакан с водой.
– Да я же сёдни пил, – вяло начинает дед, но старушка обрывает:
– Каво ты врёшь. Пил он! Я уж курей накормила и печку подтопила, а ты ишо и вставать не думал. Пей, давай. Смотрю, смотрю, не косись, – подталкивает его под отечную колотушку руки, заставляя засыпать таблетки в рот. Проглядит – и в иранку сбросить может. Глаза у него стали чудные: то вроде без проблеска жизни, безучастные. А то вдруг заиграют какой-то детской хитринкой. В этот момент он потихоньку шкодит: прячет таблетки, считая, что его уже перекормили всякой химией. Разум тоже играет в прятки. То он есть, и дед обсуждает новости из телевизора и радио, вспоминает родню до пятого колена. То вдруг какой-то сквозняк по мозгам, который выдул последние двадцать лет, и он с утра засобирается на работу, с которой распрощался давным-давно, убеждая супругу, что опоздал к началу службы.
Дед честно запивает таблетки, ворча:
– Сколько их можно пить. Ничо ж не болит.
– Потому и не болит, что пьёшь! Вставай, умывайся да чайвать будем.
Подав руку, помогает приподняться из кровати. Тот, зевая и почесываясь, потихоньку вываливается из объятий своей старинной люльки и, надёрнув тапки на отечные тоже ноги, по-медвежьи переваливаясь, плывёт в другой край избы – к рукомойнику.
Баба Катя терпеливо ждет за уже накрытым столом. Под полотенцем паруют стопкой блины, исходят паром две чашки – большая – дедова, поменьше – бабкина.
– Хошь доктора в телевизоре и ворчат, что вредно, но как вот поись-то, без блинов, без сала, – продолжает спорить с невидимыми профессорами баба Катя. – Врут всё! А штоб мы поскорей с голоду помёрли. И пенсию платить не надо. А я не поем, так и заснуть не смогу.
При подходе деда к столу успевает и стул поудобней поставить, и тарелку из-под широкого локтя убрать, и торжественно открыть румяную горку.
– Когда уж успела блинов-то напечь? – совсем по-детски удивляется дед, протягивая руку к самому горяченькому, сверху.
– Дак не все ж лежебоки, койку мнут! – парирует бабка, пододвигая ему ближе вазочку со сметаной.
Утренние посиделки с разговорами затянулись на добрых полчаса, пока дед не начинает ёрзать в поисках опоры для руки.
– Пристал? Но, щас помогу, – поднимается со своего табурета бабка и опять подаёт ему руку.
Взявшись за ее маленький кулачок, тоже, к слову, отёчный, дед начинает подыматься. С третьей, а то и с пятой попытки ему это удаётся, и он потихоньку пускается в обратный путь.
– Погоди! – опять по-сержантски останавливает бабка. – А гимнастика? Ты вчера ещё сулился, что будешь шевелиться. Разве ж ты не понимаешь, што я тебя не смогу поднять, если ты совсем сляжешь? Давай-давай, занимайся, – на всякий случай добавила голосу и, обогнав деда по пути в комнату, встала наперерез.
– От же ты зудааа! – машет головой дед. Прислонившись к косяку двери спиной, стал маршировать на месте. Так, вероятно, ему казалось. На самом деле ноги, обутые в растоптанные чуни, походили на ленивых цирковых медведей, которые не хотели шевелиться и подымались на дыбы только под резкий окрик дрессировщика.
Суровая бабка-сержант, взглянув на старательные попытки «гимнастики», неожиданно покатилась со смеху:
– Ты гляди, не схудай! Разошелся. Аполлон Полведерский…
Деду только этого и надо. Буркнув «хватит», поплыл в сторону своей коечки, по пути опираясь – то на угол кресла, то на угол печи, и подойдя к кровати, перехватившись за ее головку, тяжело занырнул в её спасительную глубину, как в гамак.
А баба Катя, присев у окна, пододвинула к себе другой лекарственный коробок, вытащила свои таблетки и выпила утреннюю дозу. Устало посидела, грустно поглядывая на дедову стопочку таблеток. А потом, спохватившись, опять пошла обратно:
– Но чо, недвижимость моя? Улёгся? Дай-ка гляну, носки не тугие? Не пережимают ноги? Не болит ничо? Дай, я маленько ноги разотру.
– Да чо их шевелить. Нормальные.
– Да они уж ничо не чувствуют. «Нормальные», – растирает осторожно отечные лодыжки, пугающе холодные под рукой, встревожено глядит в лицо деда.
– Давай носки тёпленьки оденем? Щас я с печки подам. Совсем у тебя кровь-то не ходит, ишь замерзли ноги.
Укутав деда, снова села за стол напротив божницы, позабыв про немытую посуду и подняв глаза к иконе в углу над столом, перекрестилась. Помнит, как крестилась в первый раз, размазывая по лицу сажу и кровь. Чего уж тогда она наговорила молчаливой иконе, не помнит. Не до того было. Было ей тогда 28 лет.
Ветер в тот день гудел, как сумасшедший. Морок раскинулся над деревней дырявым смурным плащом, в котором от порывов то тут, то там появлялась новая рванина. Песок несло над деревней. На зубах песок этот скрипел, глазам было больно от въедливых соринок. Казалось, никогда не кончится этот ветреный день. После утренней дойки, повязав пониже платок, чтоб глаза защитить от хлёстких ударов ветра, торопилась она домой с фермы. И за огородами на дороге увидела вдруг, что столб с проводами завален, а под ним лежит что-то, издалека зеленеющее на фоне серой земли.
А потом захолодело вдруг внутри и ноги чуть не отказали: в этом зеленом узнала она мужев мотоцикл. Не помня себя, бежала к столбу, к клубку спутанных проводов, среди которых он корчился, пытаясь выползти. Одежда на шее и на ногах тлела, разгораясь на ветру. Глянул на неё полубезумными от боли глазами, шевельнул рукой, на которой трепыхалась неопрятными лоскутами тлеющая фуфайка с коричневой дымной ватой, пытаясь отогнать её этим жестом от смертоносных проводов.
Не обращая внимания на провода, которые опасно искрили в местах соприкосновения, подскочила к нему и, не касаясь руками, ногами в спасительных резиновых сапогах выталкивала его из смертельного клубка жалящих проводов в кювет.#опусы Молча, сжав зубы, размазывая по лицу слезы, упрямо толкала и толкала ногами его подальше от смертельной опасности, превратившись в бесчувственную машину, не давая воли сердцу, чтоб не упасть рядом с ним там, обхватив его руками.
И потом только, поодаль, рухнула на коленки, сняв свою фуфайку, и гасила его тлеющую одежду, осторожно пыталась стянуть её, а потом увидела, что на помощь бегут люди.
Домой его вели под руки, бросив всё еще тлеющую фуфайку. В порванной полуобгоревшей рубашке, он шел, качаясь как пьяный, из-за шока, вероятно, не чувствующий боли. След от огромного ожога был на шее, на руках, и на ноге виднелся сквозь дыру в штанине.
Дом, испуганные глаза ребятишек, поиски ножниц, куда-то запропастившихся. Срезанные полусгоревшие лохмотья одежды на полу. И её торопливые молитвы к Богу, как будто от того, насколько быстро она их прочтёт, зависела скорость «скорой помощи».
Из больницы его выписали только через четыре месяца, в августе. Сожженная под шеей кожа срослась рубцами, будто к шее кто приложил огромную короткопалую пятерню. Чужая, уродливая, она по-хозяйски обхватила горло, сдавливая его при каждом неосторожном движении. Второй шрам был на ноге, выше колен – огромный поджаренный блин, больше четверти в диаметре. Раны только-только затянулись молодой кожей, любая одежда причиняла боль, и ходил он по ограде в широченных трусах и майке, широко расставляя ноги, как моряк во время качки, чтоб не причинять боль одеждой.
Спасительный преднизолон, которым снимали в первые недели боль, и стал теми дрожжами, на которых стройный её Николай и стал «подыматься», сначала до 80, потом до ста, а потом и поболее килограммов. Конечно, на килограммы и глядеть не стала – лишь бы одыбал и ожил. С годами затянулись все раны, даже рубцы стали не такими пугающими. А самым страшным сном много лет был сон о том, как она его вытаскивала из искрящих проводов.
Вспомнилось, как однажды ночью, в декабре, приехал он из соседнего села, где временно работал сменным, и постучал в дверь, уже в ночи. Шесть километров шел с трассы домой, обындевел, как дед Мороз. Испугалась, ругала, оттирала, отпаивала горячим чаем. Растирала задубевшие ноги. Бог отнёс.
Даже не чихнул назавтра… «Затосковал да и поехал», – улыбался он ей оттаявшими губами.
Много чего вспоминается Катерине. Как за всю их жизнь ни разу, считай, не расставались – роддом да ожог не в счет. Свадьба вспоминается – и смех, и грех. Отправили его в соседнее село работать. Скучали друг по другу, а работа – никуда не денешься.
У неё – почти неделя отпуска. Вот и поехала в гости. Пожила там у него 4 дня, собралась домой, а паспорта в сумке нет. С собой ведь брала. А он сидит рядом с сестреницей (квартировал у неё), улыбается тихонько. Потом подаёт из кармана своего пиджака.
Берет она паспорт, листает, а там… штамп о браке!
– Это што такое?
– Ничо. Пошел в сельсовет, а он в одном помещении с клубом. Говорю, моей некогда прибежать, распишите нас. Вот и расписали.
Время – обед. Хозяйка, взглянув на «молодую», споро стала наставлять на стол горячее с плиты: картошку жареную, карасей, щи.
– Саняяя! Иди, свадьбу гулять будем, – смеется, подзывая с ограды своего мужа. Пообедав вчетвером, стали уж планы строить, что дальше делать. Перебралась Катерина в Новониколаевку, три года там и прожили, а потом в свою деревню вернулись с двумя народившимися уже малышами.
– Эта… Иди-ка сюда, – позвал из спальни дед. Баба Катя снова сорвалась с места. Стоя у изголовья, глянула пытливо:
– Чего?
– А щас утро или вечер?
– Утро, конечно! Ты ж блины со мной ел.
– А сама-то таблетки пила? Или токо меня травишь?
– Пила, пила, не переживай.
– Запереживаешь тут. Тебе вперёд меня никак нельзя. Я ж даже с койки без тебя не вылезу, – и глаза деда глядели в этот раз вполне осознанно и серьёзно. – Ты бы телевизор, что ли, включила. Картина можа какая идёт, про любовь, – улыбнулся он, переключившись с хмурой мысли.
– Придумал тоже, «любооовь». Разе она есть? Сказки! Дурь одна в этом телевизоре. Давай-ка, я лучше тебя побрею, – поднявшись с кресла, привычно включила бритву и стала сбривать щетину, сбавляя нажим на месте старого шрама на шее, а потом аккуратненько протёрла лицо влажной салфеткой.
– Вишь, ты ишо у меня молодой, – улыбнулась она, пригладила неровно остриженный ею же чубчик и прижала его остриженную головушку к груди…
Автор: Чубенко Елена