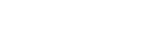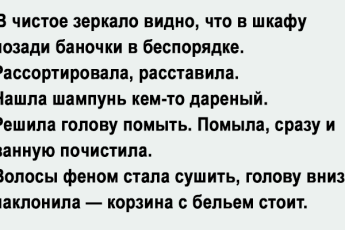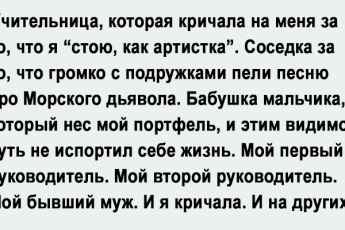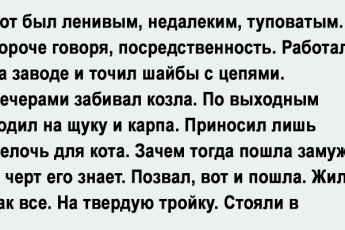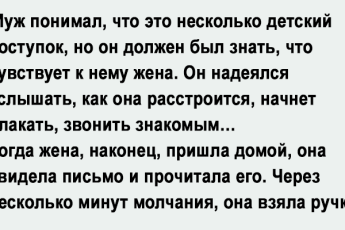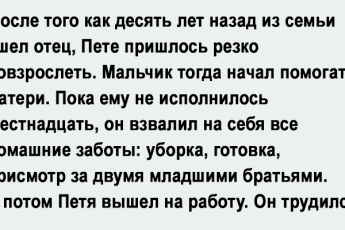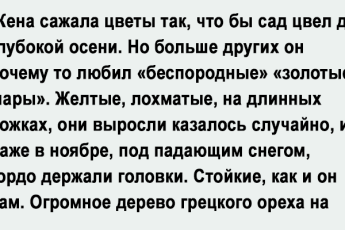Он не знал, откуда пришел. О чем и сказал матери, когда вошел в сознательный возраст и понял, что у него нет, как у других сверстников, отца. Провал и темнота – вот что чувствовал Ким, когда задумывался о своем происхождении.
– Да какая темнота, – не согласилась мать. – Был у тебя отец, был.
Путаясь и запинаясь, она принялась рассказывать ему о том, как уезжала из родного села на заработки на шахты (родной дядька, материн брат, уговорил), ну и познакомилась там с парнем.
Он работал под землей, она – наверху, выдавала каски и лампы шахтерам. Поначалу здорово робела – чужая земля, чужие люди, а тут вдруг раз – подошел парень, да так хорошо улыбнулся, что у нее сердце затрепетало, отозвалось на ту улыбку теплой, возникшей где-то глубоко внутри (у сердца?) волной.
– Ну, и где же он теперь? – отважился на другой (начал выяснять, так уж до конца) вопрос сынуля.
– Да кто ж его знает… Приехала однажды на шахту дивчина черноброва да гарна, и оказалось, что она его невестой была. После этого он только разок ко мне и подошел. Прости, мол. Собралась я да и вернулась обратно. В родной колхоз.
Мамка глядела в окно, но Ким все равно заметил, что глаза у нее на мокром месте. Ну, и чего человека донимать…
И все-таки, когда закончил восемь классов и поступил в педучилище, он заявил матери:
– Хочу на ту шахту съездить. На него поглядеть.
Мамка поняла, о ком речь, и в глазах ее возник вопрос: зачем? Но вслух его произносить она не стала, казала только: лет-то сколько прошло… дядьки уже и в живых нет, а детки его Кима никогда не видели и, стало быть, не узнают.
– А зачем мне надо, чтобы узнали? Пустят переночевать – и ладно.
На родной станции сел на поезд, вышел в Макеевке. Дальние родственники, доселе ни разу не видевшие его, приняли, тем не менее, хорошо. Правда, когда узнали, зачем он приехал, только руками развели:
– Э-э, друг… Там большая семья. Куча детей. Жинка шибко боевая…
Но он все-таки пошел. Увидел: сидит во дворе, на бревнышке, широкоплечий плотный мужчина, задумчиво покуривает папироску. Ким уже за щеколду калитки взялся, но тут из сеней раздался женский голос:
– Мыкола, подь сюды.
Мужчина нехотя поднялся, а он подумал: и впрямь – зачем я в их жизни объявляться буду?..
Так ничего та поездка и не прояснила. Разве что одно: как была у него одна только мамка, так и будет.
И тогда он перестал об этом думать – откуда пришел.
Учитель рисования – такая ему светила профессия после окончания педучилища. Мать радовалась: в тепле, чистоте, среди умных людей…
Но в его сознании и миропонимании уже случился переворот. За время учебы (это тебе не школа) хлебнул вольницы, пристрастился читать разные книжки. Пристрастился, чего греха таить, выпивать.
Часто было не на что, но иногда они с Колькой Чепурновым сбрасывались на бутылку «Солнцедара» и шли на речку, выпивали и закусывали уведенным из столовки хлебом. Чтобы было не так пресно, прикусывали кисленький щавель, его на приречном лугу много росло.
Пили не до угару, а только чтобы свободней было о самостоятельной жизни говорить, которая – вот она – совсем скоро.
– В школу идти? Да ну ее, эту нудь.
– А куда? – спрашивал долговязый, с усыпанным веснушками лицом Колька.
– Черт ее знает.
Ким чувствовал, что взял от своего преподавателя все, что мог взять. Хотелось бы больше, но больше тот дать не мог. Эх, поучиться бы еще в Москве… Да разве содержать их матерям будет под силу? Они и здесь-то – из последних сил…
С работой все получилось неожиданно просто: когда он приехал на последние каникулы домой, председатель колхоза предложил:
– Плакаты, диаграммы, лозунги… афиши в клуб. Пойдешь?
Он хотел поначалу отказаться – думалось-то, мечталось о другом, но потом, поразмысливши, согласился. Зарплату председатель обещал не сказать, чтобы большую, но топку на зиму на те деньги купить было можно. А поднакопивши, и обновки справить. Тем более что пришла пора влюбиться.
С Ниночкой они жили рядом, и доселе он ее только как соседку и воспринимал. Вечно в домашних заботах (детей в семье было много), вечно недочесанная, одетая кое-как. А тут увидел ее на танцах принарядившуюся: щеки пылают, глаза искры мечут – будущая рембрантовская женщина…
Домой – соседи же – пошли вместе. Аким решился взять Ниночку за руку. А у калитки так и вовсе осмелел – полез целоваться. Ниночка решительно отстранилась:
– Ты че, Ким. Я мечтаю… ну, пусть он будет хотя бы городской.
На этом бы и остановилась. Нет, пошла дальше:
– Ты мало того, что не городской. Ты хоть и нашенский, а все равно какой-то чужой. Не работаешь, например, а только рисуешь.
И тогда ему стало ясно: мало того, что он не знает, откуда пришел, он еще всегда будет жить один. Один с таким именем на селе. Один по судьбе…
Мать назвала его Акимом – в честь своего отца, не вернувшегося с войны. Но кого сейчас так называют? В школе его быстро переделали в Кима, и мать со временем тоже привыкла так называть…
Одиночкой-затворником после отставки, которую ему дала Нинка, он, конечно, не стал; когда жизнь круто поменяется и ему придется зарабатывать на жизнь уже на городском рынке, девахи-оторвы будут появляться в его жизни одна за другой, но никто не задержится с ним надолго.
Одна, самая умная, сказала прямо: «Все у тебя как-то зыбко, ненадежно… Нынче картину удалось продать, а завтра?»
Получив очередное подтверждение догадке – один по судьбе – Ким только яростнее налег на работу.
Еще в колхозный период своей творческой жизни, положив однажды перед собой ватманский лист бумаги с тем, чтобы изображать очередную диаграмму, он принялся вдруг набрасывать женский портрет: барышня в шляпке, в полуоборота к зрителю, глаза не горят, а лампадно светятся, и как бы о чем-то вопрошают…
Чего нет в жизни – пусть будет в картинах. Хотя бы здесь – пусть дышат духами и туманами…
С тех пор так и повелось: то диаграммы и графики, то женские портреты. Так что, когда колхозы приказали долго жить, он уже знал, что и в начавшейся новой, странной жизни не пропадет. Жить будет в селе, картины на продажу возить в город.
Пошел на пилораму, выпросил у школьного еще товарища дощечек. «Бери, скоро брать будет нечего», – равнодушно сказал Витек. Из дощечек он мастерил рамки. Краски и холст покупал.
Народу надо было «покрасивше» – и он рисовал натюрморты с красивой посудой, сирень в вазе, сирень, заглядывающую в окно… Сам про себя он пренебрежительно называл эти картины «открытками».
И однажды взял и срисовал с листа из цветного журнала церковь Покрова на Нерли. Картину никто не брал, народ шел мимо. «Ничего-ничего, дождусь своего покупателя. Сколько можно им потакать»…
Но даже цветы стали брать уже неохотно. Народ сидел без денег. Потом появились богатенькие – в малиновых пиджаках, с золотыми цепями на волосатой груди. Этим – большие полотна подавай. И какие там барышни в шляпках – надо, чтобы бабы были почти неодетые, а лучше всего – нагишом…
Однажды рядом остановилась молодая женщина. Поднял глаза – Ниночка. Он знал, что она уже давно живет в городе, но встретиться не получалось. И вот…
– Ой, Ким… Как хорошо-то…
– Что хорошо? Что встретились?
– Рисуешь хорошо. Особенно вот эта…
Ниночка глядела на «открытку»: посреди озера остров, на нем тоненькая рябинка, а с берега тянет к ней руки-ветви кряжистый дуб.
– Как живешь-то? – вроде бы равнодушно поинтересовался он.
– Да так…
Стояла, глядела с грустинкой.
– Раз нравится – бери.
Она полезла в сумочку за деньгами.
– Бери, я сказал. Дарю.
– Ой, Ким…
И поцеловала. Быстро так. Словно украдкой…
В тот вечер он вернулся домой, сильно выпивши. Мать не ругалась (она никогда не ругалась), молча поставила пред ним тарелку с супом. Села напротив, смотрела, как он ест, подперев голову рукой. Вздохнула, высказав заветное:
– Женился бы. Что на ней, на Нинке – свет клином сошелся?
– Не сошелся, – согласился он. – Сегодня я это понял.
– Так чего же? – обрадовано встрепенулась Маруся.
– Ложки, плошки, поварешки… Зачем?
– Как зачем? Все люди так живут.
– Вот! «Все люди так!» А я не хочу! Понимаешь: не хо-чу!
Маруся знала, что теперь надо молчать. А то заходит по хате, начнет махать руками и извергать из нутра незнакомые, непонятные ей слова. В такие минуты она готова была согласиться со своей молодой соседкой, несостоявшейся невесткой: и впрямь – чужой. Уж матери-то можно спокойно сказать. А у него – все на взводе, все на нерве…
Тихонько поднялась и пошла из дома куда-нибудь.
При новой жизни появилось в селе два магазина, где, как в городе, стояли у стены столики, и можно было взять пива или чего покрепче и выпить, как говориться, не отходя от кассы.
Он ходил к Наде – Надя была приветливой. Нальет с улыбкой, в душу не лезет. Попробовала однажды про «женился бы» сказать, он ей – про ложки, плошки, поварешки, и она неожиданно согласилась:
– И то правда.
Смотрел на нее и думал: эх, надеть бы на нее шляпу, да платье в кружевах – вот и Прекрасная незнакомка. Над лицом и работать не надо. Лицо – из девятнадцатого века. Ей бы в каретах по балам разъезжать, а ее жизнь за прилавок поставила…
При новой жизни появился в селе батюшка. Был учителем – стал священником. Выходило, оба они своей профессии изменили. Батюшка по этому поводу задумчиво говорил:
– Есть профессия, а есть призвание.
В магазин он заходил за хлебом и колбасой и иногда, усталый, присаживался рядом с Кимом. Возрастная граница их разделяла не шибко большая, к тому же держался батюшка демократично, да и общая профессия их, что ни говори, сближала, вот почему говорить с ним у Кима получалось запросто. Однажды он спросил:
– Ну, со мной все проще. А вот ты… объясни мне, зачем ты надел рясу?
– И с тобой все не так просто, – не согласился батюшка. И совсем уж задумчиво добавил: – Мир вообще сложно устроен. Во всяком случае, одними законами физики его не объяснить.
Непоседа батюшка (в сорок лет летал по селу, как подросток) срывался с места и бежал по своим делам, которые закончились, в конце концов, тем, что закрытая по предписанию санэпидстанции баня (в селе, принявшем немало постороннего люда, участились случаи заболевания сифилисом) начала превращаться… в храм.
Усталые от жизни бабенки и крепкие еще старухи дважды побелили здание изнутри и снаружи; Витек, заскучавший без лесопилки, разгородил помещение надвое: часть поменьше – для батюшки, откуда он будет начинать и вести службу, часть побольше – для народа, который придет молиться.
Старухи принесли иконы, сохраненные из прежней, большой и красивой, но порушенной в тридцатом году церкви. С тем батюшка и начал службу, в первой же проповеди заявив:
– Раньше мы омывали здесь свои тела, а теперь будем очищать души…
Батюшка умел говорить такие слова, что когда он произносил проповеди, тишина в новоявленном храме стояла благоговейная.
А когда при церкви, его же стараниями, появился свой хор, когда начались полноценные богослужения – народ сюда потек из других сел и даже из райцентра. Венчаться, отпевать усопших, крестить детей… Батюшка сопротивлялся, но приезжие упорно стояли на своем:
– Нет, только у вас хотим.
Пришел срок, и над церковью появился купол с крестом. Ким шел однажды мимо, глянул художническим глазом и поразился: от бани не осталось и следа; храм Покрова на Нерли – вот что стала напоминать сотворенная батюшкиной волей сельская церковь.
С началом весны заметила Маруся, что сын стал где-то пропадать, домой приходил совсем уж поздно. Тревожилась: опять в магазине засиделся? Спаивают народ, а называют это «культурным отдыхом»…
– Ты что-то и картины свои забросил, – отважилась она на вопрос.
Сын отрешенно молчал.
– Картины-то чего забросил? – решилась не отступать она.
Посмотрел, словно от сна очнулся.
– Ага, забросил. Чтобы все силы бросить на одну.
– И что же это за картина?
Ким опять долго не отвечал. Маруся уже собралась уходить из дома (пусть сам супу нальет), как вдруг услышала:
– Христа рисую.
– Кого-кого?..
– Сказал же – Христа.
Теперь пришла очередь помолчать Марусе. Она собирала мысли: ни в свою, из бани сотворенную, церковь, ни в какую другую сын сроду не ходил, и вдруг…
– Батюшка, что ли, уговорил?
– Батюшка, батюшка…
Она уже несла на стол тарелку супа:
– Ешь. Питай организм.
– Вот-вот, организм… Ты что, думаешь, человек – это только тело?
– А чего же еще?
– А душа? – уже начинал сердиться сын. – Без души человек был бы простым куском мяса.
– Это тебе тоже батюшка сказал?
– Я это и без батюшки знал. Все знаем. Только предпочитаем не помнить.
– Ну-ну… ешь.
Маруся глядела на сына и страдала: исхудал-то… Кожа да кости. Уж не заболел ли? А там ведь, поди, работа тяжелая…
– Большая картина-то?
– Весь купол. Изнутри.
«Спаси и сохрани», – вспомнила Мария из детства. Весь купол… Как он туда забирается-то – на верхотуру?..
Старалась с тех пор кормить его получше. Но сын все равно таял на глазах. Стало понятно: болезнь и вправду в нем завелась и безжалостно вершила свое подлое дело. Маруся раздобыла мяса, стала варить мясные щи.
Прознала, что большая польза бывает от геркулесовой каши – стала и ее варить по утрам. Да ведь он две-три ложки съест – остальное ей оставит.
Поскорей бы уж там, в церкви, дела закончил…
И такой день пришел: сын пришел усталый, как никогда:
– Все, спать завтра буду до обеда.
Однако не встал и к вечеру…
Батюшка похлопотал о машине. Кима отвезли в больницу. Там кололи уколы, давали таблетки, но назад привезли еще худей.
– Чего тебе хочется поесть? – жалобно спрашивала Маруся сына.
– Не знаю.
Метнулась к соседке, принесла остатней – она слаще первой – клубники. Только две ягодки и съел…
Хоронило чужого все село. И плакало, как по родному. Батюшка сам читал Псалтирь, хор пел так, что до мурашек пробивало. Маруся сидела у гроба каменным изваянием, на вопросы отвечала ничего не понимающим взглядом. Ее и спрашивать перестали.
Не заговорила она и в другие дни. Приходили люди, видели: сидит, смотрит на сыновы картины.
Но однажды вдруг встала и пошла в церковь. Служба уже закончилась, народ разошелся, только батюшка виднелся в раствор Царских врат. Подняла глаза вверх – и обомлела: сверху прямо в душу (вот когда поняла про душу) смотрели глаза, которые знали всё.
Про нее и про весь этот мир, юдоль земную. Всё и всех вобрали в себя эти глаза, всех обнимали и утешали, даруя людям терпение и силу пройти отмеренный участок земного пути.
– Батюшка, как же он… смог? Выпивал ведь… с женщинами грешил…
Батюшка, неслышно подошедший к ней, терпеливо принялся разъяснять:
– Если бы ты читала Святое Писание, знала бы, что Господь всех любит. Даже грешников. И всем дает свои милости. Вот и сыну твоему… Ведь талант-то свой он успел реализовать! Что было ему определено – сделал!
– Кем определено?
– Эх, Мария… Да ведь Господь сотворил нас по образу и подобию своему. Господь – творец. Надо ли говорить дальше?
– Кажется, разумею, батюшка. Только Он велик, а мы…
– А мы малые мира сего. Но искра Его есть в каждом. Да не каждый ее чует, дает ей развитие. Твой Аким сумел. И успел…
Мария опять подняла глаза. По образу и подобию… Ее сын носил такие же длинные волосы, так же открыто было его лицо. Батюшка, конечно, про другое подобие говорил, но ей и такое сходство тоже ра… радостно. Какое невозможное слово сказалось-вырвалось из груди… И вслед за ним открылось: вот и нашел сынок своего Отца…
– Батюшка, можно я буду приходить, полы здесь мыть? Или еще чем помогу.
– Приходи, Мария, приходи.
Маруся низко поклонилась на иконостас, подняла руку ко лбу, перекрестилась.
Она была уже у дверей, у выхода, когда батюшка окликнул с амвона:
– А тебе известно, что отца девы Марии тоже звали Иоакимом?
Шла домой и думала: зачем, для чего он ее об этом спросил?..
Project: Moloko Author: Моловцева Наталья