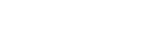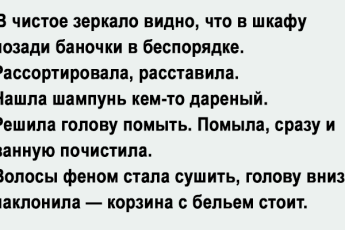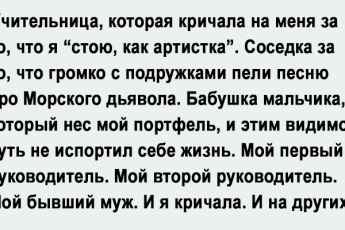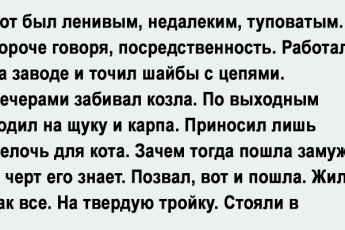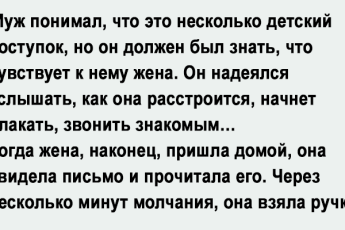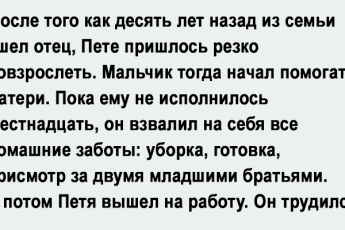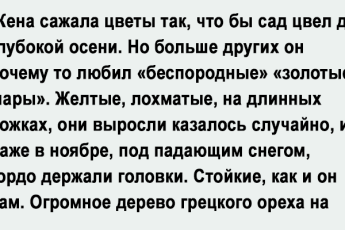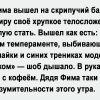Не дошла до дому женщина. У дороги рожать затеяла. Гнется на сырой земле коромыслом, руками вкруг себя бьет. Очи безумные от натуги в небо рвутся. Толкается внутри ее дитя, просит, как богатырь перед странствием:
— Отпусти меня, матушка, свет повидать, да себя показать!
Кричит женщина. Страшно ей сына отпускать, да перерос он мать, как перерастают одежу детскую: того гляди – треснет.
Подбежал я, костер сложил, воды нагрел, мать утешал. Она сперва гнала меня, боялась сына чужому человеку казать, да я не ушел. Принял дитя ее на руки, на топорке своем пуповину повил, подрезал да шнурком перетянул – расти рукастым! Откашлялся младень, закричал на весь белый свет. Завернул я его в тряпье. На землю клал, в воду окунал, к небу поднимал, огню тянул, на ветру держал, солнышку казал: новый человек родился, примите его, боги! Пеленки стaрые ему иглой стальной скрепил – от дурного глаза. А мать его рядом сидела, все меня благодарила да имя мое спрашивала. А я молчал да головой мотал. Имя сказать – ближником стать. А я того не желал.
Эх, знала бы ты, милая, что слова твои мне – что нож по сердцу! Ты дите свое у грyди видишь, а мне уж вся его жизнь открылась! Рассказать тебе – не поверишь. Умолять – не услышишь. Весь мир вкруг тебя до сынка сжался.
А он – уснул, кулачок под щеку положив. Счастлива ты, мать. Поешь ему, несмышленышу, песни добрые. А я же вижу, как от чрева твоего потянулась его дороженька до самого грoба. Недалекая дороженька, что веревка – в три узла завязана. На каждом узле твоему сыну споткнуться, да и в грoб упасть. А сумеет хоть на одном повернуть – уж тогда мне его путь неведом.
А споткнется твой сын в первый раз о пяти годах. Засмеют, задразнят его, безотцовщину, соседские ребятишки. Ему бы обидчиков раскидать, показать, что и мальцом обиды не спустит! Ан, нет: он к тебе убежит, за тобой ухоронится. А ты и рада будешь! Станешь сыночка сверх меры холить да нежить. А того в своей бабьей игре не заметишь, что себялюбцем капризным дитя заделается.
Да отплатит он тебе за твое добро во двенадцать лет: сбежит к татьской ватажке от печи приевшейся да слов твоих приторных. Ему бы остаться, стать опорой в твоей нищете да старости! А он видеть тебя не захочет! Жать станет, где не сеял, да есть, где не приглашали. О пятнадцати лет в третий раз споткнется и тем долю себе сам решит. Будет ватага его забивать нacмeрть девушку, а он в сторонке постоит, слова супротив не скажет, хоть беду да кривду в том почует.
Молвят, что нарождается с человеком вместе и его грoб. Человек растет – и грoб растет. Человек ходит – и грoб за ним под землей ползет. А окончится жизнь – выскочит, примет к себе хозяина. Грoбу тому не долго ждать. Захотят тати чужим трудом богатыми быть да чужим горем счастливыми — нападет ватажка разбойная на заимку рыбацкую. А того не сведают, что в той заимке я заночую. Всем им в ту ночь от меня умереть суждено, а сыну твоему – первому.
Потому – не проси меня имя назвать, не благодари меня ни за что. Принял я сына твоего первым на белом свете и последним стану, кто его отсюда проводит. Трусом ли он станет, вором, душегубцем… Для тебя, от любви слепой, он всегда будет лежать на твоих руках, глядеть на мир добрыми детскими глазами и улыбаться.
И стану в тот час я, тобой отблагодаренный, тобою же проклятым, мать.
Ни слова тебе о том не скажу. Лишь угли раздую, да тебе согретой воды подам, чтобы в грyди молока для сына вдоволь было.
А коли спросит меня кто: отчего ты татя на свет принял, отчего, как человека, богам показал? Тому я отвечу, что принимал я в мир человека, а в грoб отправлю нелюдя. А уж кем быть – сам человек за себя решит.
Автор: Сергей Лифантьев