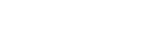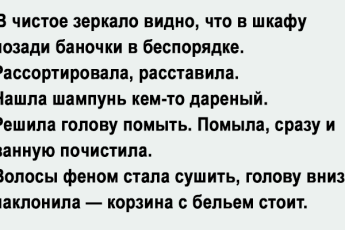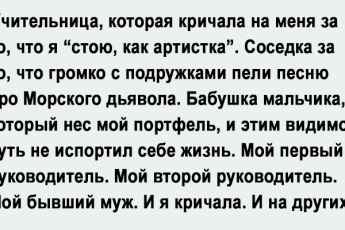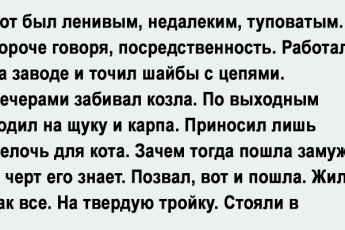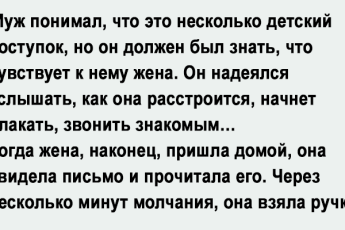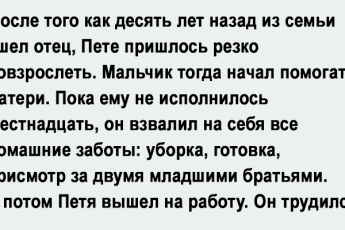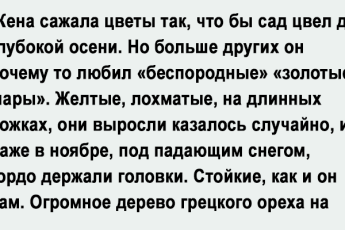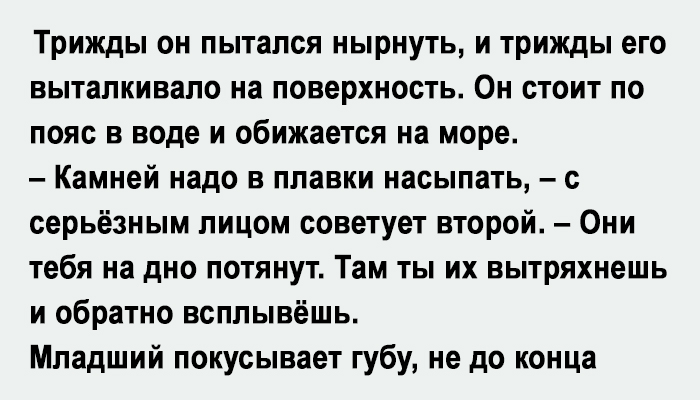– Пиши, я сказал, нече по сторонам глазеть. Замужняя, чай…, – дед увидел, как Люська – жена внука его единственного, которому заменил он отца, глянула за забор – на голоса молодых, – Пиши – живём мы, внучок, хорошо. Хорошо, живём, значит …
– Да написала я уже, чего повторяете-то!
– Пиши, не твоего ума дела, твое дело – писать! Пиши чего говорю! – он рявкнул, и продолжил диктовать, – Мать, значит, схоронили. На могилку ходим, незабудки там наросли.
– Писали уж, про незабудки-то…
– Когда это?
– Так в прошлый раз ещё. Все одно и то же диктуете. А я – пиши.
– А чё те делать-то ещё, коль не мужу писать? Гляжу – глазами уж стреляешь!
– А то мало дел-то! Каша у Вас вон стынет, поешьте…
– Да погодь ты со своей кашей, пиши…
Людмила пишет сидя за сколоченным из досок столом посреди двора, а дед убирает в скирду высушенную траву и пытается сосредоточиться. Но в последнее время это к него получается не очень хорошо.
Вот как похоронил дочь, так и сдал.
Совсем сгорбился, часто бесцельно бродил по двору, за дела, вроде, брался, но до конца не доводил, бросал. Потом уходил в лощину и сидел там долго у извилистой их реки.
Он давно мечтал о лодке.
Людмила знала – внука он очень ждёт. Может даже больше, чем она…
Да и ждёт ли она уже мужа своего? Три года, как в глаза не видела…
Познакомились они с Алексеем на полузабытом проезжем тракте. Туда выходили местные из деревень с товаром, какой есть. Кто с яйцами, кто с грибами, а кто и с медом. Народ ехал со станции, с базара – обменивались и покупали.
Вышла туда и Люся с матерью – чернику продать, сезон как раз. А Алексей ехал на телеге с дедом. Остановились, хотели чернику на сливу выменять, поговорили сердечно.
Дед и шуткани:
– А эту чумазую нам не отдадите с черникой заодно, мы ее отмоем, банька у нас…
Мать оглянулась, а Люська ее и правда стоит – губы черные, руки черные…
– Да и забирайте, у меня ещё две есть…, – рассмеялась звонко.
– А чё, Леха, заберём? А то мать наша че-то совсем разболелась. Уж и Фиалку сам дою. А?
Люся краснела, Леха отводил глаза. А мать – возьми да расскажи, какая хата у них, да где стоит.
И явился-то Леха всего пару раз, посидели на скамейке на расстоянии. А тут и дед с дочерью своей – Анной, матерью Алексея – сваты.
А Люся, вообще-то, учиться хотела, в техникум. Да где уж там! Теперь – замуж. Алексей ей нравился очень, только какой-то заботы и большой любви она от него не чувствовала. Как будто надо жениться – вот и женился.
Дождались, когда восьмилетку Люда закончит, и забрали к себе в дом, далековато от родного села. Только через год и расписались.
Дети не родились. Может потому, что объявлялся Леха в доме редко. Подрабатывал он в леспромхозе, и приезжал лишь на побывку, и не каждый даже выходной.
Люся в его приезды расцветала, заплетала красиво свои длинные темнорусые косы. Мать брала на себя все дела, лишь бы молодые побыли вместе. Да вот только Алексея тянуло обратно – в леспромхоз. Люся его волновала мало.
– Скукота тут у вас.
– Так возьми меня с собой.
– Да ты что! Мы с мужиками в бараке живём. Куда там тебя? Да и мать с дедом не оставишь. Болеет мать-то?
– Болеет. При тебе храбрится только.
Мать, действительно, чувствовала себя хуже и хуже с каждым днём. Уже отвозил её дед в больницу, лечилась. А все хозяйство: корова, овцы, поросята, птица – на Люсе.
А Алексей надумал уехать на заработки – на Дальний Восток. Кто-то его позвал.
– Понимаешь, заработаю, отстроим новый дом…
Люся ждала, писала письма, и от себя, и от матери с дедом под его диктовку.
Свекровь умерла. Хоронить помогли родственники Людмилы, Алексей не приехал, а дед – был не помощник, совсем расклеился в те дни, дочь жалел.
– Я то чего живу, коли Клавы нет, Нюры нет?– низко опустив голову, горевал он вечером на пороге.
– Алексей есть, внук Ваш, и я…, – пыталась успокоить Люся.
Дед махал рукой. Она приносила ему неловко склеенную и уже зажженую цигарку. Докурив, он притаптывал окурок.
– Иди в дом! Нече тут! Застынешь…
Люся уходила, а потом подсматривала, как дед ударом ноги отворял дверь сарая, входил внутрь, бросался лицом вниз на солому, катался по земле, плакал глухим стариковский плачем.
Но потихоньку жизнь вошла в свое русло. Люся – из дома на ферму и обратно. Да и старику есть чем заняться. То картошку перебирал, то дрова колол, то косил.
Все со скидкой на возраст – потихоньку.
А вот ворчал безбожно.
– Фиалка мычала утром! Не доена она у тебя чи шо?
– Доена, ещё перед фермой доила. Вперёд ведь ее всегда…
– Значит так доила, руки б тебе оторвать… Вот Леха приедет – все расскажу!
– Сами доите, коли не нравлюсь.
– Молчи, девка! Ишь, взяли на свою голову бездельницу! Нашли на дороге…
Люся жала плечами – опять не с той ноги встал.
Иногда огреть его сковородкой хотелось очень. Становился он все упрямее. Исхудал, а есть не дозовешься!
Как-то был случай.
Надумал дед лодку строить. Вбил две жердины посередь двора, и что-то все строгал там. Люся раз есть позовет, два, три, а он – как и не слышит. Да ещё и огрызается:
– Цыц! Ничего ты не понимаешь! Баба и есть баба! Так бы и убил…
Несколько мгновений Люся стояла с ведром в руках, глядя на деда, а потом кинула ведро в скирду со всего маху.
– Да и подите Вы, со своим хозяйством! Я учиться уеду! Вот!
Она заплакала от обиды, убежала в дом, покидала в чемодан свои вещи. Надоело все! К матери лучше пойти, чем выслушивать каждый раз такое …
Люся, как была простоволосая, из дома выбежала с чемоданом. Дед стоял, отвернувшись, но ничего уже не мастерил, стоял тихо. Она громко хлопнула дверью калитки и быстро пошла по грунтовке через село.
Лицо ее потемнело, думы были злые. Распалил дед обиду.
А за селом остановилась, села на чемодан. Сердце в груди защемило. Просидела полчаса, подумала, и вернулась обратно. Подошла потихоньку ко двору.
Дел сидел на скамье, прижавшись спиной к стене.
Господи, куда ее понесло? – подумалось Люсе, – И как он без неё?
Она зашла во двор. Услышав её, он вскочил и, вроде как, принялся за свои дела.
– Есть будете? – строго спросила Люся, стоя ещё с чемоданом.
– Давай поедим, давай… И это … Лёше надо написать, давно что-то не писали.
Людмила не сказала деду – главное.
Последние письма их вернулись на почту – адресат выбыл. Вот только куда выбыл, почтальону неизвестно.
И Люда, уж который раз, писала письма под диктовку деда и убирала их за образа. Там и лежали они плотной связкой.
Куда отправлять?
А может вернётся и вправду…тогда и прочтет, как жили они тут без него с дедом.
Вот только верилось в это уже мало. Но она – жена, должна вести хозяйство и приглядывать деда. Никуда не денешься…
А человеку свойственно надеяться на лучшее. Она и в деревне, и на ферме не говорила никому, что не знает адреса мужа. Стыдно как-то …
А дед чудил и чудил. Однажды поздней осенью, когда Люся возвращалась с вечерней дойки, увидела она дым черный над их домом. На несколько мгновений застыла, а потом бросилась бежать.
Горело за сараем сено. А дед раскинув руки, прижимался к сараю, словно надеялся своим телом укрыть его от огня. Штаны на нем чуть не горят.
Люся подхватила ведро, набрала воды в бочке, плеснула. Казалось, огня стало даже больше.
– Уйдите оттуда, уйдите! – но дед не слышал.
Тогда она прыгнула по языкам огня, схватила его за руку и потянула к себе. Осмотрела – не ожегся ли, сунула ведро:
– Воду неси!
И сама помчалась за лоханью. Они таскали воду, боролись с огнем. И огонь постепенно стихал. Последние его плевки гасли на догорающем сене.
Люда подошла к деду – лицо его измазано жирной копотью, да и она не чище…
– Курили? Сколько говорить, не бросайте цигарки! Сколько?
Дед растерянный, виноватый и вымотанный, смотрел на нее испуганно. Люся смягчилась.
– Баню затоплю, побрить Вас надобно. Совсем заросли.
– Люсь! Тут …
– Что?
– Да ничего … Ладноть …
Баньку растопили, сажу отмыли. Дед побритый, в белой рубахе, сидел у печи. Но весь он было какой-то потерянный, и не кричал на неё как обычно, не ворчал привычно уже.
– Вы не заболели ли часом? И вода Вам сегодня ни холодна — ни горяча. Обычно столько брани слышу, как баня у нас. А тут…
– Да нет. Спать хочу просто, – и заковылял в свою каморку.
А наутро на ферме заведующая так ласково, будто жалеет.
– Люсенька! Там тебя письмо деловое в правлении дожидается, ты забеги потом.
Люся и не сразу поняла, что там написано. Председатель пояснил – Алексей с ней разводится, и надо ей в город съездить, бумаги на развод подписать.
И все – не жена она больше Алексею Пономареву.
Председатель прятал глаза, и самому неприятно сообщать такое:
– Зато свободная женщина ты теперь, Людмила! И детей нет к лучшему, – думал тем успокаивал, – Опять замуж выйдешь. А хочешь учиться пошлем?
– А дед?
– А что дед?
– Да беспомощный он совсем стал. Вчера вот чуть дом не пожег … кормлю чуть не насильно. В общем …
– Так чей дед-то? Лехин же. Вот и пусть думает… Не твой это дед, и дом теперь не твой.
Людмила возвращалась домой. А как – не домой? Уж стал этот дом родным.
На землю падал первый осенний снег.
Дед как-то беспомощно сидел на пороге, запрокинув вверх лицо.
Снежинки, одна, другая, падали ему на лицо, как будто желали утешить, сказать ласковое слово. Но, видать, неуютно показалось им в его морщинках, и они срывались и летели дальше искать себе другой уголок.
Люся, зайдя в калитку, начала ворчать, гнать деда в дом.
Он встрепенулся, но не встал с места. Она подошла.
– Знаешь уже? – спросил тихо.
Люся сразу поняла, что и дед тоже знает о разводе. Кто-то уж доложил.
– Знаю…
– Прощаться будем? – казалось, дед не смог усидеть дома, так ждал ответа Людмилы, вот и вышел…
Людмила помолчала, поставила сумку на порог.
– Гоните?
Дед поморгал глазами, а потом закрыл их морщинистой ладонью – не хотелось слабость показывать. Хотел что-то сказать. Хотел, но перешибло слова рыданием.
– Ну, коли, не прогоните, останусь, – скорей вставила Людмила, – С Вами поживу пока, а там, как Бог даст. Не горюйте так.
Он шмыгнул носом, отер тыльной стороной рукава лицо, ухватившись за перила, поднялся.
– Я там … в общем, самовар достал. Думаю, а хвать – да не уйдешь …, – он махнул рукой, – Ты прости меня, дочка, коли че! Виноват я. Да и за Лешку стыдно. Мы с тобой щас такое письмо напишем этому гаденышу! Ух! Я уж придумал все. Вмиг вернётся …
Людмила глянула на образа.
– Напишем! Обязательно напишем, дедуль. Как не написать!
***
Цена величия – ответственность….
Автор: «Рассеянный хореограф»