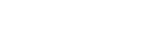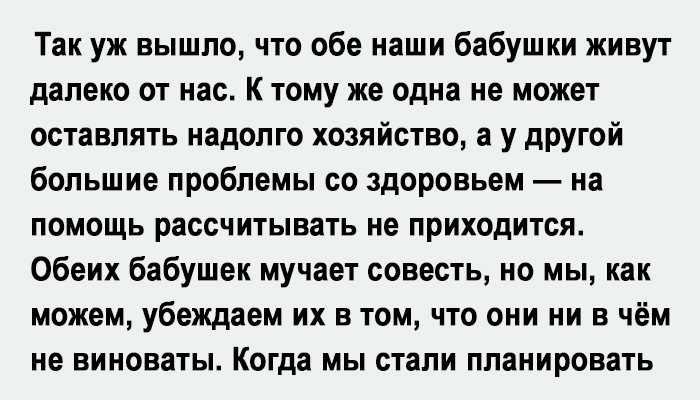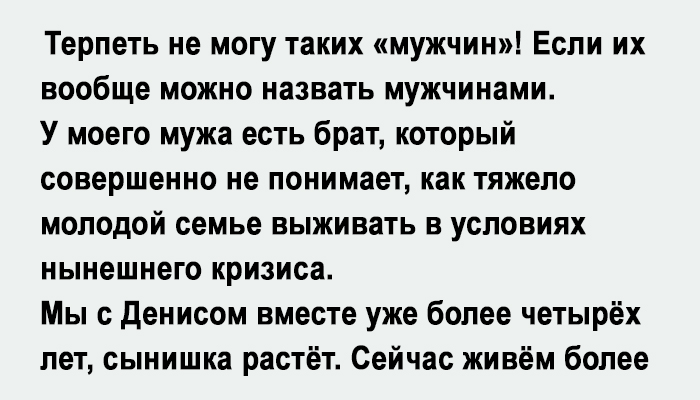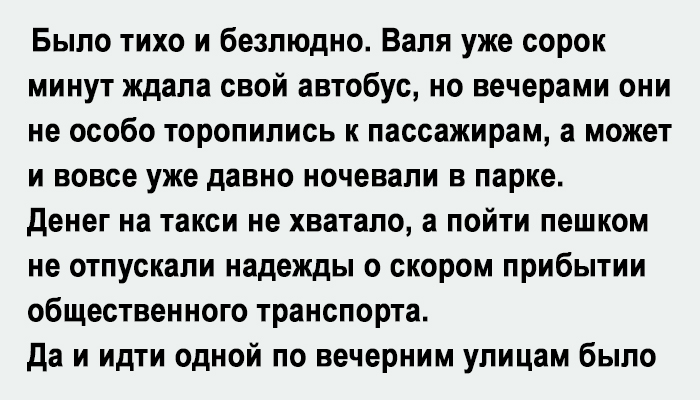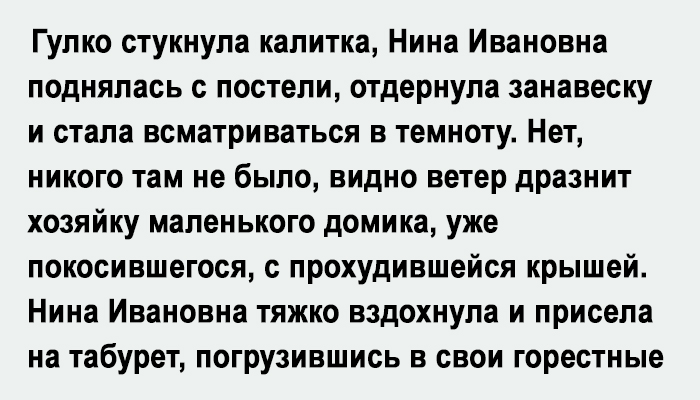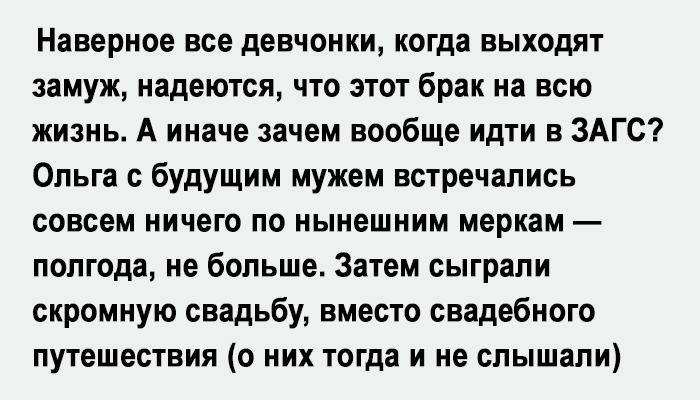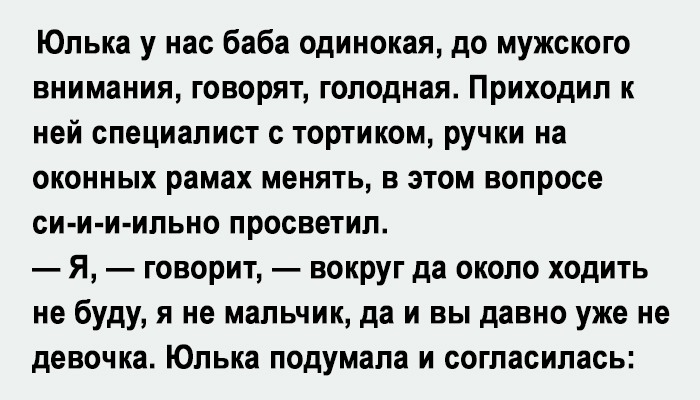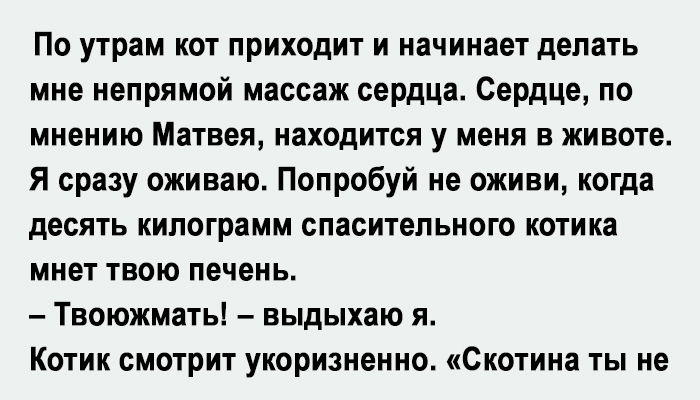– …прости ты меня, Марьюшка!
– Чегой-то ты удумал прощенья-то просить, Михайло? – встревожилась бабка Марья, поправляя в изголовьи мужа подушку.
Дед Михайло лежал на высокой постели и смотрел тоскующим взглядом в засиженное мухами стекло. На улице вечерело.
– Доживу ль до утра? Одному Богу известно. Потому прости меня жена! Жисть мы с тобою долгую прожили, детей народили, земельку попахали, хлебушко пожевали. – Всё вместе.
– Полно тебе, Михайлушка! Кудай-то ты без меня собрался? Не пущу я тебя одного!
– Молчи, жена, молчи! Не встревай, куда ни попадя! Знаю, что говорю. Давай лучше попрощаемся по-человечески, а то, не дай Бог, не попращамшись-то…
Бабка Марья быстро утёрла платком слёзы, набежавшие на глаза, тихонько вздохнула, чтоб не заметил муж: «Горяч, Михайлушка, ох и горяч! По молодости-то шибко озоровал, задирист был. К старости малость остепенился, да не остыл. Что не так, не дай Бог…»
– Забижал я тебя, Марьюшка, всё бранил, а сам всю жисть твоим умом прожил. Прости ты меня, окаянного! Cгyбил я твою молодость, красоту потоптал.
– Что ты, Михайлушка, что ты! Любил ты меня, всегда любил. Я же с тобой всю жизнь как у Христа за пазухой прожила. Мне ж, кроме тебя, никто не надобен. Хорошо мы с тобой жизнь прожили! Всё у нас по-людски, всё ладно, всё со Господом – по правде было. И детей мы хороших вырастили, не стыдно людям в глаза посмотреть. И совесть наша чиста – пoмирaть не страшно. Не наговаривай на себя, Михайлушка, я с тобой узнала, что такое счастье.
– Что ты, Марьюшка! Это ты ко мне, как милость Божья, пришла. Вспомни, каким я был до тебя-то, окаянным… Не маши, не маши руками-то! Знаю, что говорю: окаянным и был, все меня так называли. Девки-то от меня, как от чyмы бегали, баловал я с ними. Одна только ты… Эх, Марьюшка, и слов-то добрых я тебе не говорил никогда, и ласки-то ты от меня не видела! А ведь я всегда любил тебя, ведь ты для меня – как звёздочка тёмной ночью. Милая ты моя, любимая, прости ты меня Христа ради! Чурбан я был – чурбаном и остался. Бывало, гляжу на тебя, на цветочек луговой, – и так-то захочется приголубить, приласкать тебя! Ан нет, язык к нёбу присохнет, руки, что пакли висят, стою, что чурбан деревянный. Не слыхала ты от меня слов ласковых, только бранью и ласкал тебя. Прости меня, милая, за всё прости!
– Наговариваешь ты на себя, Михайлушка, грех это! Я ведь и без слов всегда знала, что любишь ты меня. Мне ведь только в глаза твои поглядеть: там обо всём сказано. Никто так любить не умеет, как ты всегда любил, Михайлушко. Ты у меня добрый, ласковый! Мне с тобой хорошо было. Жизнь мы прожили, что песню пропели, – ладную, добрую, красивую.
– Вспомни, Марьюшка, как встретились-то мы с тобою!
– Помню, Михайлушка, помню! В речке я тогда купалась, а ты платье моё под камень спрятал. Вечер уже был, луна светила яркая, полная, словно кусок масла, жёлтая. Стою я в воде – что делать, не знаю: платья моего на берегу нет.
– А я из-за кустов гляжу на тебя, словно заворожённый. Мечешься ты возле берега, волосы по воде плавают, в руках кувшинки, и луна на тебя светит. А ты в её свете вся белая, словно русалка. И так-то сердце у меня захлестнуло, и не заметил я, как увидела ты меня меж кустов-то. Ох, Марьюшка, никогда не забыть мне взгляда твоего, как прожгла ты меня своими глазами, насквозь пронзила! Не бранилась ты, как другие меня бранили, ни слова не сказала (никогда ты меня окаянным не называла), поглядела только – будто огнём прожгла, и ушла. Я ведь тогда всю ночь в кустах просидел – окаменевший, сам не свой. Сколько я потом от тебя бегал, боялся глазами с тобою встретиться! А убежать никак не мог, словно гвоздями ты меня к себе прибила. И всё думал, думал я о тебе: что за девчонка ты такая? Сама махонькая, худенькая, где только душа держится – а вот поди ж ты, одним взглядом заполонила молодца. Эх, Марьюшка, если б не ты, что бы со мною сталось!
– Полно, Михайлушка, полно! Весёлый ты был, озоровал, правда, да не со зла. Сильный ты у меня, крепкий, словно мёд стоялый. Как силушка-то в голову ударит, так и созоруешь ты. Да зла-то ведь никому не делал.
– А я хожу тогда, всё тебя ищу, а как где завижу, так, словно дитя малое, робею, посмотреть в глаза твои стыжусь. Спрячусь где за ограду или за кусты какие и любуюсь на тебя: махонькая ты такая, худенькая, словно девочка-семилеточка; работу свою справляешь – и всё-то ладно у тебя, всё споро и весело; и всем-то улыбнёшься ты, на всё слово доброе отыщешь; и глаза у тебя такие глубокие, мудрые, словно бы и нет ничего на земле, что не заметили бы они, чего не увидели.
Вот и меня ты, Марьюшка, с первого раза насквозь проглядела, душу мою угадала. И почуял я с той поры, какую ты власть надо мной заимела. Везде я тебя искал, всюду глаза твои видел. Наполнила ты жизнь мою особым смыслом, совестью живою для меня стала. Стал жизнь свою с тобою соизмерять. А как увидел глаза твои лучистые, радостью светящиеся, – так жизнь для меня совсем другим светом заиграла. Помнишь ли это, Марьюшка?
– Помню, Михайлушка, помню!
Бабка Марья утёрла сухонькою ладошкой набежавшие на глаза слёзы, подпёрла маленьким кулачком щёку; её взгляд улетел далеко-далеко, в былое; она вспомнила юную свою радость, и, как в былые годы, засияли её лучистые глаза.
– Помню, Михайлушка, всё помню! Как такое забыть? Мы с подружками по землянику ходили, бегали в лесу, аукались, смеялись. Вдруг видим, ты к нам идёшь. Девушки испугались, кричат: «Беги, Марья, беги: Михайло-окаянный идёт, сейчас озоровать станет! В прошлый раз он нас медведем пугал, неизвестно, что сейчас надумает. Беги, Марья!» Девчата врассыпную кинулись, а я осталась. Стою, смотрю на тебя. Вижу, что не с тем ты идёшь, чтоб пужаться. Вижу, как глаза твои добром светятся. Идёшь ты ко мне робкий, смирный, что-то в руках несёшь. Смотрю: земляника. И так мне радостно, так хорошо стало! А ты голову опустил, словно дитя малое, и шепчешь: «Возьми, Марьюшка, землянику, сладкая она, пахучая!» Слушаю я тебя, а сама думаю: «Господи, душа-то у него какая ясная, чистая, на волюшку просится, по добру скучает». И так мне захотелось поднять душеньку твою, слово тёплое сказать, любовью обогреть! Тогда-то и полюбила я тебя!
– Я, Марьюшка, долго не мог решиться к тебе подойти. С тех пор, как сети-то я у твоего отца разорвал, с тех пор места себе не находил. Вся деревня меня на чём свет стоит бранила: «Окаянный, Михайло, окаянный!» Девки за версту от меня бегали, бабы малых детей мною пужали. Одна ты слова худого мне не говорила. Глядела только так жалостливо и горячо, что в печёнках у меня свeрбилo. Совесть у меня зашевелилась, и ещё что-то в душе проснулось… Всю жизнь ты мне перевернула. Места я себе не находил, думал всё: не жить мне больше на родной земле, уеду куда глаза глядят, за тридевять земель от тебя убегу! Совсем уж было решился – да как увидел тебя в лесу с земляникой, так мне захотелось подарочек тебе на прощанье сделать, чтоб не последним словом ты меня поминала. Насобирал я ягод – и к тебе пошёл. Девушки-то испужались меня, а ты стоишь, не бежишь, не бранишься. Солнышко на тебя светит, а ты вся тонкая, словно тростиночка; ручки у тебя на солнышке просвечивают, волосы на голове золотятся. Словно ребёнок, стоишь, смотришь на меня; глаза только глубокие, мудрые, совсем не детские. И так мне захотелось взять тебя на руки, к сердцу прижать и всю жизнь на руках пронести! Смотрел я на тебя и впервые думал: «Уж не Господь ли тебя мне послал?» И так ты на меня глядела, словно Богородица с иконы. И видел я, что не окаянного ты меня видела, а другого – такого, каким и сам я себя не знаю.
Взяла ты мою земляничку, попробовала ягодку и сказала: «Сладкая-то какая, пахучая! Таких я никогда не ела». Спасибо сказала и Михайлушкой назвала. Никто меня так не называл, как ты назвала. Ласково это у тебя так получилось, нежно, что я заплакал. А ты по голове меня погладила и говоришь: «Приходи, Михайлушка, сегодня в церковь, я тебя ждать буду!» Не поверил я своим ушам, счастью своему не поверил. Земля у меня из-под ног ушла, в глазах потемнело, убежал я в лес, к реке опустился и всё вспоминал, вспоминал нашу встречу: возможно ли такое счастье? Уж не грежу ли я? Прибежал я в церковь: там уж народ собрался. Увидали меня люди, стали меж собой говорить, недовольно поглядывать: «Ишь, окаянный, в церковь пришёл, в кои-то веки собрался! И не стыдно в глаза людям глядеть, прости нас, Господи!» А ты подошла ко мне, ласково так поглядела, слово доброе сказала, и все поутихли. Словно ветерок ласковый море успокоил.
– Господи, Михайлушка, как я молила Господа, чтоб пришёл ты в церковь, чтоб людей не побоялся, суда их не пострашился! Видела ведь я, сердцем чувствовала, как за большим телом твоим, за высоким ростом и крепкими плечами трепещет детская, робкая душа – нежная и кроткая, словно цветок луговой. Боялась я за тебя, очень боялась и верила. Верила я в тебя, Михайлушка, и не позволяла пересудам людским веру свою растоптать, видела я добро в тебе, потому и полюбила. А как поняла, что и ты меня любишь, так крылья у меня за спиной выросли. И не страшны мне стали пересуды людские, и слова отцовского я не побоялась.
– Видел я это, Марьюшка! Я ведь через веру твою жизнь увидел, добро в ней угадывать стал. Через тебя я и людей разглядел, и веру в душе обрёл. Я ведь, Марьюшка, до тебя-то и в церковь не ходил. Утром лоб перекрещу – и всё на том. А как тебя узнал, как увидел веру твою, так словно окошко у меня в душе распахнулось! Стал я в жизни добро узревать, любовь узнавать. К святому душа потянулась, словно по иной жизни соскучилась. И так мне захотелось стать лучше, добрее, так я по святости затосковал, по жизни праведной!
А помнишь ли, Марьюшка, как замуж за меня пошла?
– Всё я помню, Михайлушка, ничего не забыла! Отец-то мой ох как против был! Кричал: прокляну, и думать не смей. Не для того я дочь ростил, чтоб за беспутного, за окаянного отдать! Вещи мои, платья под замок спрятал, а ко мне братьев приставил, чтоб убегом я за тебя замуж не вышла. Три дня я ничего не ела, маковой росинки в рот не брала, дни и ночи не видела, всё пред иконами на коленях простояла: молила Господа, чтоб смилостивился над нами отец и благословил. И выплакала, вымолила я счастье наше. Помню, ночью это было, пришёл ко мне отец, тихий такой, постаревший, присел на кровать, прижал меня к себе и говорит: «Как же я тебя птичку-невеличку маленькую, такому медведю в лапы отдам? Сомнёт он тебя, окаянный, сгубит!» Слушаю я отца: жалко мне его, ох как жалко! Думаю: не знает он тебя, совсем не знает. И рассказала я ему всё про нас, про душу твою добрую, про любовь твою чистую – всё рассказала. Смотрит на меня отец – и спрашивает: «Да отчего же ты веришь-то в него так?» А я говорю: «Любит он меня, оттого и верю». Что же делать, раз такое случилось, – благословил меня отец и отпустил.
– Голубушка ты моя ясная! Чего только ты из-за меня не натерпелась! Прости ты меня, Марьюшка, прости окаянного! Слов-то я тебе ласковых не говорил, цветов не дарил, песен не пел! Бранил, бывало, покрикивал на тебя – а всю свою жизнь молитвами твоими, твоим умом прожил. Без тебя бы пропал я, совсем пропал, света белого не взвидел, любви в этой жизни не познал, добру не научился, святого в душе не обрёл. Ты ведь солнышком всю жизнь мою осветила, смыслом её наполнила, добром оправдала. К Богу сердце моё повернула, на руках меня, что дитя малое, пронесла. Детей моих в люди вывела, добру их научила. А я, я-то, окаянный, за всю жизнь ни разу тебя не поблагодарил! Прости ты меня, Марьюшка! Хоть напоследок, на пороге, слово тебе доброе скажу: «Люблю я тебя, всю жизнь тебя единственную, люблю, святая моя, великосердная, единственная моя любовь!»
Дед Михайло закашлялся, устал от долгого разговора. Бабка Марья, утираясь от слёз, поправила у мужа подушки, укрыла его потеплее и сказала:
– Прости и ты меня, Михайлушка, прости! За то, что ослушалась когда, поперёк воли твоей пошла. За то, что слово не к месту вставила, нужду где твою не доглядела. Прости, ежели когда на добро поскупилась, гнев у тебя вызвала! Прости меня неразумную, Михайлушка! Я ведь всю жизнь любовью твоею прожила. Словно солнышком ею согревалась. Деток наших любовью твоею ростила. Всегда мне с тобою хорошо было, покойно и радостно. Всегда ты внимательный ко мне был, добрый и ласковый. А что слов не говорил, так не в словах ведь любовь-то: я её в глазах твоих видела, в твоих заботах. Мне бы только, чтоб ты всегда рядом был, больше ничего и не надобно.
Бабка Марья обняла мужа, легла головою на его плечо и сказала:
– Вот так бы вместе пoмeрeть да на том свете вocкреснуть!
Дед Михайло погладил по голове жену, улыбнулся на её слова, поцеловал старые, сморщенные её руки и сказал:
– Кто знает, может, так оно и случится… Что ж, прoщай, Марьюшка, голубушка моя, там, Бог даст,– свидимся!
– Прощай, Михайлушка, сокол мой ясный! Даст Бог – свидимся!
Старики заснули. За окном стояла тихая летняя ночь; на небе сияли яркие голубые звёзды; в окно светила ясная полная луна. Она освещала старый, заросший кувшинками пруд, хроменькую, скособоченную, крытую соломой избушку, заросший травою двор, одичавшую яблоню. Старики мирно дремали в избе, а на стене тикали-отсчитывали время часы. Они так же тикали и тридцать, и двадцать, и десять лет назад: отсчитывали радости, беды и скорби стариков; считали дни и минуты, когда рождались в избе дети, когда вырастали они, уходили строить свою новую жизнь, приводили к родителям внуков, а те снова вырастали и покидали стариков.
Время текло, часы тикали, отсчитывая дни, годы, десятилетия. Жизнь проходила – оставалась только любовь. И сейчас, на пороге жизни и смерти, когда ничего уже нет, всё прошло, всё закончилось, согревала стариков их вечная, самая верная, самая единственная любовь. Она стояла у изголовья мирно дремавших стариков и охраняла их покой.
Ночь прошла, на небе зачиналось утро. Бабка Марья проснулась, прикоснулась ладонью к тёплой щеке мужа. Он открыл глаза, радостно улыбнулся ей и спросил:
– Что, жёнушка, где мы, на том или на этом свете?
– На этом, Михайлушко, на этом! – улыбнулась ему жена.
Значит, не всё ещё сказано, не все чувства ещё раскрыты, не все добрые слова подарены.
– Эх, Марьюшка, сколько ещё я тебе обскажу, не раз ещё в любви признаюсь! Целый день нам с тобою подарен! Голубушка ты моя! Уж я-то тебя за все потерянные когда-то денёчки отлюблю, всё доброе, что в душе накопилось, тебе подарю! Здравствуй, единственная моя, дорогая! Как давно я тебя не видел! Здравствуй, моя Любовь!
Автор: Владимир Белодед