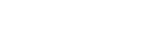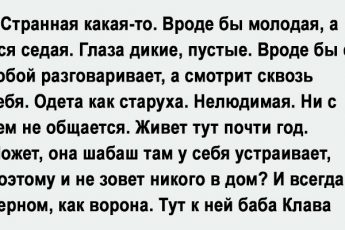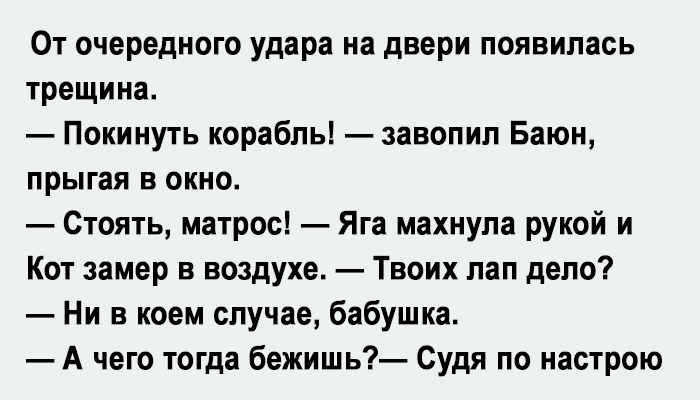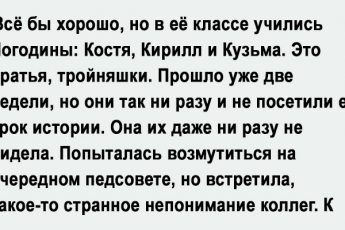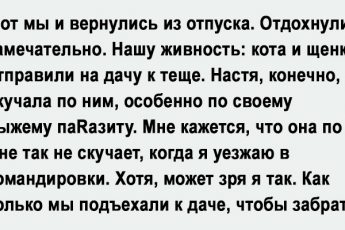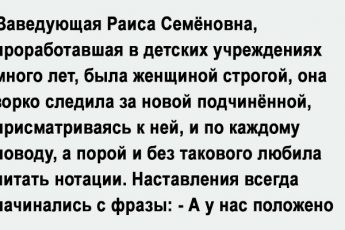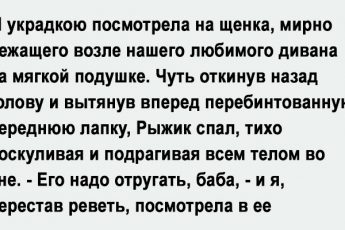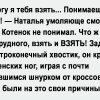Пятилетнюю Люську решено было отправить на лето к бабушке. Девочка плакала, не хотела; бабушку она не помнила и остаться у нее без родителей ей казалось страшно. Но родители были непреклонны. Папа был партийный работник, мама учительница. Они оба были заняты на работе с утра до вечера, и Люська оставалась дома под присмотром соседки. А у той и своих трое, мал-мала меньше.
Мама, пытаясь успокоить дочку, говорила: «Вот увидишь, как тебе понравится. У бабушки есть курочки, ты их будешь кормить, и козочка тоже есть, ты с ней подружишься, она тебя молочком будет поить.» Девочка умолкала на время, пытаясь представить, как это козочка может поить молочком.
На утро был назначен отъезд. Папа выхлопотал на службе бричку, запряженную серой лошадкой, в нее погрузили Люськины пожитки, усадили маму с Люськой и бравый красноармеец помчал их за город, в деревню.
Еще недавно в стране гремела гражданская война, но Люська самой войны не помнила, а помнила только, как отец то появлялся в шинели с шашкой и револьвером на ремне, то снова уходил надолго, и мама тогда все время плакала. Еще она помнила, что ей все время хотелось есть, она просила маму: «Дай хлебуська,» — и мама снова плакала, но ничего не давала.
Теперь Люську уже не мучил голод, но вот, на тебе, новая напасть: нужно было расстаться с мамой на все лето. А сколько это — все лето, она представить не могла. Видимо, очень надолго.
Впрочем поездка Люське понравилась. Ее все забавляло — и то, как молодой возница управляет лошадкой, и то, как лошадка помахивает хвостом, отгоняя мух, и даже, как она на ходу роняет «яблочки».
Путь был не близкий. Люська в дороге успела и поесть, и поспать, и проснулась она только тогда, когда услышала: «Тпрррррр,» — и лошадка остановилась у бабушкиного дома.
Прощание с мамой снова вызвало море слез. Кое-как маме удалось оторвать от себя плачущую Люську. Но вот и пыль уже осела за удаляющейся бричкой, а девочка все еще всхлипывала, размазывая слезы по запыленному лицу.
Бабушка что-то говорила, успокаивая внучку, но она не слушала и, вдруг, успокоилась при появлении большой, разноцветной кошки. Никогда ей не приходилось видеть таких пестрых кошек. И кошка тоже взирала на девочку, казалось, с удивлением. «Вот, познакомься, это Муська, она у нас дом от мышей сторожит. Можешь ее погладить, она добрая,» — сказала бабушка.
Кошка была действительно добрая, она разрешила себя погладить и так умиротворяюще подействовала на девочку, что та забыла о своей недавней печали. Бабушка накормила внучку и в баньке попарила. «Как в сказке про Иван-царевича,» — думала Люська, засыпая.
Тосковать Люське было некогда совершенно. Новые впечатления сыпались на нее как из рога изобилия. Ей все было интересно, она с любопытством наблюдала, как бабушка доила козу, как молодые петушки дрались между собой, как кошка ловко взбиралась на дерево, словом, буквально все, чего она была лишена в городе. Но самое интересное началось после знакомства с соседом. Это был рыжий, обсыпанный веснушками мальчишка лет, примерно, девяти-десяти.
Он первый заметил прибавление в соседской усадьбе. «Эй, малявка, ты откуда взялась?,» — окликнул он ее. Она опешила от такого фамильярного обращения и ничего не
ответила. Тогда он, перемахнув через плетень, подошел к ней: «Тебя как звать-то?» «Люська,» — ответила девочка. «А меня — Пашка,» — и он по-взрослому протянул руку.
Она не знала, что делать, и он сам взял ее руку своей довольно грязной рукой, сжал ладошку и потряс ее. Так началась их дружба. Он называл ее малявкой, она делала вид, что обижается, и дразнила его конопатым. Он тоже делал вид, что сердится, и грозил отстегать крапивой. Однако они привязались друг к дружке и были почти неразлучны.
Бабушке некогда было следить за внучкой. Сыта, цела и, слава Богу. Только знакомство с Пашкой она не одобряла: «Не ходила бы ты с ним, — увещевала она девочку, — научит плохому. Они с дедом страсть, какие ругатели».
Пашкин дед был его единственный родной человек. Родители погибли в гражданскую. Пашка их и помнил-то плохо. Дед воспитывал внука, как умел. Он некогда был боцманом на военном судне и понятие о педагогике имел весьма своеобразное. Свою воспитательную речь, он переплетал такими «спиралями», что «великость и могучесть» родного языка просто меркли. И естественно, что и внуку
привилось немало замысловатых, непечатных эпитетов его воспитателя.
Люська не понимала ругательных слов и не придавала им значения. Зато Пашка наполнял ее жизнь такими приключениями, которые городской девочке и не снились.
Каждый день привносил в ее жизнь что-нибудь новое. Пашка смело уходил в лес, не боясь заблудиться, и уводил ее вместе с собой. Какой-то внутренний компас приводил его обратно,
указывая путь. С ним она не боялась ничего, ни густых зарослей, в которых что-то шевелилось, ни зыбкой почвы под ногами. Лишь однажды она вскрикнула, когда из под их ног выскочил большой заяц. Пашка только рассмеялся: «Эх ты, городская, зайца испугалась!»
Они возвращались, перепачканные соком ягод, с полными лукошками грибов.
А как славно было в жаркий день плескаться в речке! Плавать она не умела. Пашка ее и этому научил. Он заботливо поддерживал ее пока она осваивала приемы плавания, и она восхищалась его силой — как это он умудряется держать ее на вытянутых руках — она не знала, что в воде почти ничего не весит.
Как-то он сказал ей: «Завтра идем на рыбалку, смотри не проспи.» Люська уже видела, как другие мальчишки, постарше, удили рыбу. Пашка только досадовал, что у него нету снастей. Где он раздобыл эти самые снасти, Люська так и не узнала. Наверное, выменял на что-нибудь. И в мысли этой она утвердилась, поскольку денег у Пашки не было, чтобы купить их, а дед его за что-то выдрал крапивой, не стесняясь соседей. Она стала невольным свидетелем страшной экзекуции, после которой стала бояться Пашкиного деда не меньше чем крапивы. Пашка мужественно вынес порку, но после попенял Люське: «Чего уставилась, задницы никогда не видела?» Люська и вправду никогда не видела такой красной попы. Она с жалостью смотрела на своего друга: «Очень больно?» «Это еще не больно, вот когда вицей дерут, это больно — так больно.»
Утром, с рассветом Люська уже не спала. Коротким свистом Пашка подал сигнал. Бабушка оглянуться не успела, как Люськи уж и след простыл. Пашка наловил кузнечиков, и они направились к речке. Удилище он смастерил из длинного прута лещины, поплавок сладил из пробки, ловко привязал крючок, безжалостно насадил на него кузнечика, забросил удочку.
«Теперь сиди тихо, чтобы рыбу не спугнуть,» — сказал он ей. Люська сидела тихо, почти не шевелясь. Она с благоговением смотрела на Пашку и восхищалась им. «Как же он много знает и умеет,» — думала девочка. Старания и мучения Пашки не пропали даром. Они тащили в деревню двух, приличного размера, блестящих на солнце чешуей, голавлей. Одного он отдал Люське, со словами: «Тащи домой, пусть бабка зажарит,» — другого отдал деду. Обиды на деда у него не было. Ну, раз порядок такой, флотский, заслужил — получи. Да и дед драл его в общем-то, без злобы, для порядку.
Бабушка рыбине обрадовалась, но дружбу с Пашкой все-таки рекомендовала оставить, не особенно надеясь, что внучка послушается.
Лето для Люськи пролетело, как один день. Она даже удивилась, когда к дому подкатила знакомая бричка с тем же красноармейцем и мамой на пассажирском месте. Приезду мамы Люська конечно была рада, но уезжать ей совсем не хотелось. Она стала уговаривать маму оставить ее еще хоть ненадолго, а поскольку слов ей не хватало, то она ввернула кое-что для убедительности из матросского лексикона. Маму чуть удар не хватил. Она схватила дочь в охапку и никакие уговоры на нее уже не действовали. Люська даже не успела попрощаться с Пашкой…
Санинструктор младший сержант Людмила Прокофьева, лежа в вагоне военного эшелона с закрытыми глазами, перебирала в памяти всю свою жизнь. Она понимала, что потом, в военных буднях ей будет не до этого. То детское лето в деревне ей вспоминалось, почему-то с особенной ясностью. Она так четко представляла все подробности того времени, как будто все происходило только вчера.
Фронт встретил девушку дымом и запахом гари. Она отыскала санчасть полка, в котором ей предстояло служить. Седовласый, с воспаленными глазами хирург, встретил ее улыбкой.
«Товарищ…» — «капитан» — подсказал он, (халат скрывал погоны). «Товарищ капитан, младший сержант…,» — начала рапортовать она. Он махнул рукой: «Вижу, вижу, что сержант.» Он протянул руку, взял документы, пробежал глазами: «Отдохни, дочка, пока затишье. После будет не до отдыха.» «Да я не устала. Готова к выполнению…» Он опять махнул рукой: «Ну и хорошо, что не устала, сходи тогда, доложись комбату, он у нас сейчас за командира полка.» И он показал, в каком направлении находится штаб.
Людмила еще пару раз спрашивала дорогу у бойцов. Один пожилой солдат, посоветовал: «Ты лучше по траншее иди к штабу-то, а то мало ли что. Как бы не приглянулась немецкому снайперу.»
А приглянуться она могла кому угодно. Бойцы оглядывались на тоненькую, красивую девушку в новенькой форме, перетянутой широким ремнем. Она чувствовала за спиной их восхищенные взгляды и, проходя мимо группы солдат, услышала вдруг: «Такую красоту, да в пекло, о-хо-хо…» «Пекло» она пропустила мимо ушей, но слова солдата заставили ее зардеться.
Она низко пригнулась, входя в штабной блиндаж. «Кабинет» комполка был отгорожен брезентовым пологом. При ее появлении в «прихожей» молоденький связист, сидевший за аппаратом вскочил. «Дисциплинка,» — отметила она про себя. Она жестом усадила его на место. «Командир здесь?,» — спросила она. Солдат снова хотел встать, она удержала его. «Так точно, — связист завертел ручку аппарата — сокол-сокол, я весна, ответь — на том конце ответили, он закричал — товарищ майор, сокол на связи!» За брезентом раздался хриплый голос: «Кузьмина! Кузьмин, готовь разведгруппу и на левый фланг. Там «фрицы» что-то затевают! Что?! Сам пойдешь!,» — и он добавил несколько слов, от которых связист покраснел из-за присутствия девушки. Комбат грохнул телефонной трубкой, «Они, вишь ты, устали, а мы тут не устали,» — и он снова добавил к вышесказанному … … … … … кое-что. «Товарищ комбат, к вам младший сержант,» — прервал тираду связист. «Пусть заходит.» Людмила, еще не убедившись в своей догадке, откинув брезент вошла: «Товарищ майор, младший се… Пашка!»
Майор вытаращил глаза. «Конопатый!» Еще с минуту длилось молчание. Майор вглядывался в улыбающееся лицо девушки. Наконец его оцепенение прошло: «Люська? Малявка?!» Объяснений не понадобилось. Они бросились друг к другу в объятия.
Они глядели в глаза друг друга и не могли наглядеться, говорили и не могли наговориться.
Он достал из кармана кисет с махоркой, оторвал клочок газеты, собираясь закурить, взглянул на нее: «Позволишь?» «Конечно.» Она развязала вещмешок и достала несколько пачек папирос. «Ты, что же, куришь?» «Нет. В пайке выдавали, я не стала отказываться, подумала, что пригодится.» «Еще как!» Он с удовольствием затянулся «гражданской» папироской.
«Васильев — связист вбежал — угощайся — он придвинул открытую пачку, — а нам с сержантом чайку организуй.» Солдат расплылся в улыбке: «Есть, товарищ майор.»
Он иногда по зову связиста хватал телефонную трубку, сдержанно отдавал команды, поглядывая на свою гостью и удивляя того, кто был на другом конце провода своей «деликатностью».
Начались бои, изнуряющие, кровопролитные. Медсанчасть была переполнена ранеными. Одних отправляли по госпиталям, других хоронили. Фронт перемещался постоянно, работы прибавлялось. Приходилось сворачивать и на новом месте снова устанавливать лазарет. Медики и санитары сбивались с ног, валились от бессонницы. И только младший сержант Прокофьева, как будто не знала усталости.
Каждый час передышки она бежала в штабной блиндаж к своему Пашке. Нежданно и не своевременно с ней случилось то, чего ждет каждая девушка, да и вообще каждый человек. Она полюбила своего Пашку, так горячо и так преданно, как случиться может только на войне, где люди ходят по краю, и где счастье может оборваться в один миг.
А ему теперь казалось, что он и не переставал любить ее с детства, с той самой минуты, как увидел.
Они не спали. Лежали рядом в блиндаже, он нежно целовал ее горячие губы, стараясь не царапать щетиной, она отвечала на его поцелуи, шепча что-то, что доходило до его сознания не через слух, но через сердце. Короткие передышки в боях не давали им насладиться друг другом и от того становились еще дороже.
Тяжелые, низкие тучи застилали небо, но фронтовики всегда на слух распознавали, что за самолеты скрываются за ними и в какую сторону направляются. Бывало, кто-нибудь скажет:
«Наши полетели «фрицам» задать — если заслышит гул советских «Илюшек», или — к нам летят, черти, сейчас начнется.» И тогда начиналось! Грохот от разрывов бомб и треск зениток сливались в такой адской симфонии, что казалось — сейчас полопаются нервы и барабанные перепонки.
В лазарете паники не было, никто не покидал своего поста, никто не бежал в укрытие. Все работали как обычно, только врачам приходилось кричать в полную силу голоса, так как из-за грохота их не слышали ассистенты.
Но вот все стихло. Очередная атака была отбита. Последний раненый был забинтован.
Младший сержант Прокофьева впервые почувствовала дрожь в ногах и странную, какую-то, тошноту. Необъяснимая тревога вытолкнула ее наружу. Она побежала проведать любимого. «Вдруг он ранен, а меня рядом нет,» — думала она…
На месте штабного блиндажа зияла огромная воронка. Девушка смотрела на нее и не могла поверить своим глазам. Ей казалось, что она спит и видит кошмарный сон. Ну не мог же ее Пашка погибнуть! Даже странно, отчего это бойцы подходят и снимают каски и пилотки.
Этого не может быть! Она стояла на краю воронки, не чувствуя своего тела. Тот самый, пожилой солдат, который советовал остерегаться снайпера подошел к ней и обнял за плечи:
«Хорошая могила досталась комбату, глубокая. Ты, девушка, не стой, как каменная, поплачь,
не жги сердце».
Люська выла, кусая пальцы, лежа на вагонной полке. Поезд уносил ее в тыл, в ночь. Она ехала рожать Пашкиного ребенка.
Прошло много лет. Ее дочь четырежды стала матерью. Бабушка Люся четырежды стала бабушкой. Сегодня у нее был радостный день. Младшенький внучек должен был навестить ее.
На кухне было наготовлено всего, самого любимого Павлушей. Бабушка сидела в ожидании с альбомом на коленях, разглядывая фотографии. У старших внуков были уже и свои дети, ее правнуки. Ей приходилось напрягать память, чтобы вспомнить, кого как зовут, и дни их рождения.
Темненькие, беленькие, всякой масти детские личики смотрели с черно-белых и цветных фотографий. А рыжий был только один. Она всех их любила одинаково. По крайней мере, она убеждала себя в этом. Но вот и долгожданный звонок. Она почти как в молодости, с легкостью покинула кресло, метнулась к двери. На пороге стоял морской офицер — ее Пашка, в золотых погонах, в золотых веснушках, он улыбался бабушке точь-в-точь как тот, погибший, самый дорогой ей человек.
Автор: Владимир Степной